Читать онлайн “Аристономия” «Борис Акунин»
- 02.02
- 0
- 0
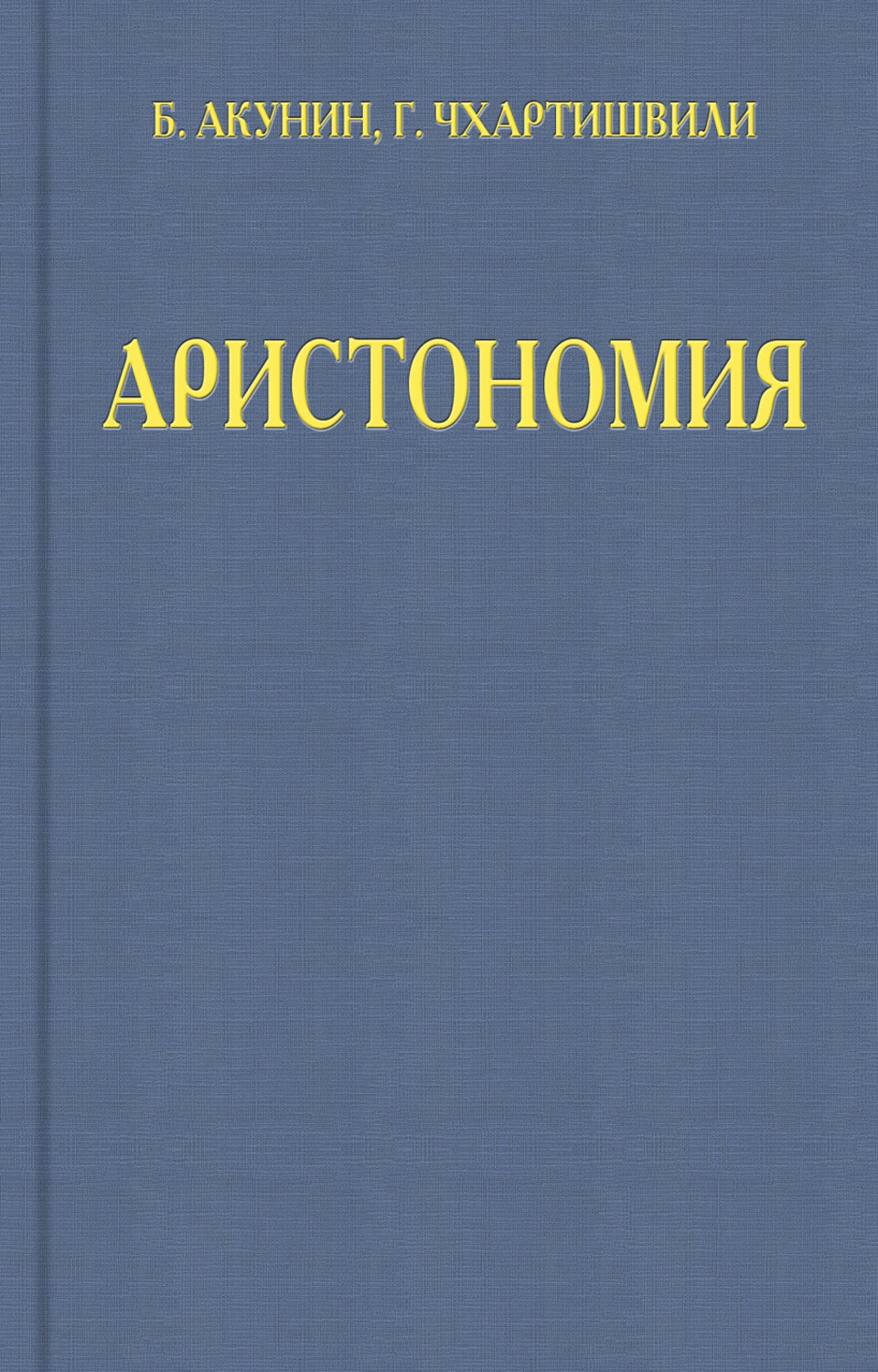
Страница 1
АристономияБорис Акунин
Григорий Шалвович Чхартишвили
Семейный альбом #1
Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) после сорока приключенческих произведений, наконец, написал первый серьезный роман, которого давно ждали читатели и критики. По жанру – это «роман идей». Действие происходит во время революции и Гражданской войны. Автор работал над этим романом несколько лет.
Акунин-Чхартишвили
Аристономия
Предисловие
Обычно предисловие пишут в начале работы, я же берусь за него, приближаясь к концу. Когда-то мне казалось, что я веду разрозненные записи не с конкретной целью, а просто чтобы дать выход мыслям, которыми не с кем поделиться. Лишь со временем созрело и окрепло чувство, говорившее: если я не сумею понять, объяснить сам себе всё это, тогда мое собственное существование, со всеми его радостями и несчастьями, открытиями и разочарованиями, взлетами и падениями, окажется потраченным впустую. Худший вид расточительства – провести жизнь на манер животного, даже не предприняв попытки в ней разобраться.
Книги, которые имеет смысл читать, обладают одним общим свойством: они написаны автором для самого себя. Даже если сочинение адресовано определенному кругу людей или вообще человечеству, настоящая книга всегда узнается по отсутствию претензии. Если угодно, по простодушию. Пишущий не боится выглядеть наивным, не пытается показаться умнее или образованнее, чем он есть, не изображает, будто его волнует то, к чему он на самом деле равнодушен, не предпринимает усилий понравиться. Автору не до этого. Автор болен неким вопросом, поиск ответа на который является курсом лечения. Если хочешь излечиться, нельзя тратить силы на несущественное.
В этом смысле книга, над которой я тружусь уже столько лет, безусловно настоящая. Когда я приступал к ней, я твердо знал, что никому и никогда не покажу написанного. Этим я подверг бы опасности не только себя, но и читателя. Не скрою, иногда я воображал, как книгу будут читать люди из будущих, более счастливых времен, но, во-первых, меня уже тогда не будет, а во-вторых, одной этой мотивации было бы слишком мало, чтобы я взялся за столь рискованное занятие. Не мне, жителю глухой страны, которая на исходе второго тысячелетия христианской эры оказалась ввергнута в тоскливый ужас средневековья, что-то объяснять людям будущего. Они несомненно будут умнее и уж во всяком случае богаче историческим опытом; их станут занимать какие-то иные вопросы, надеюсь, более высокого порядка.
Речь идет обо мне, только обо мне самом. И пишу я эту книгу исключительно для себя.
С молодого возраста я начал ощущать, и чем дальше, тем сильнее, потребность – вернее даже долг – понять, зачем всё это (я, моя страна, мир, жизнь) существует, куда движется, есть ли в этом мучительном движении цель и смысл.
В самой концепции, приверженцем которой я со временем стал, ничего новаторского нет. Она известна по меньшей мере со времен античности, однако не относится к числу преобладающих. Умы, гораздо более просвещенные и острые, чем мой, в течение долгих веков пытались найти стержень, с помощью которого можно было бы понять, что такое человек, куда он движется и движется ли вообще. В различные исторические эпохи главенствовало то одно учение, то другое. Дольше всего, до половины восемнадцатого столетия, непререкаемыми считались теории религиозного толка, возводившие смысл существования к Богу, неколебимая вера в Которого сама по себе является ответом на все возникающие вопросы. Начиная с эпохи Просвещения мнения разделились. Кто-то стал считать нитью Ариадны технический прогресс, кто-то – экономическое процветание или достижение социального равенства. Но все эти гипотезы оказались неверными – по крайней мере, так представляется мне, человеку, живущему в середине XX века. В эпоху, хронологические рамки которой совпали с моей жизнью, все вышеназванные теории потерпели крах. Мощь религий, проповедующих всеобщую любовь, не уберегла человечество от всеобщего истребления. Технический прогресс возвел цифры потерь до многомиллионных величин и ныне, додумавшись до ядерного оружия, угрожает вообще уничтожить жизнь на планете. Вера в панацейность материального достатка привела к засилию пошлости и низменно-массовой культуры, обращающей людей в жвачных животных. Культ социальной справедливости обернулся жестокой диктатурой, массовыми казнями и концентрационными лагерями.
Одно из двух: либо ответ на главный вопрос человеческого существования искали не там, где следовало; либо Кант ошибся, когда написал: «Первоначальное назначение человеческой природы заключается в движении вперед».
Мой трактат исходит из того, что Кант прав и «движение вперед» все-таки происходит. А кроме того, в этой книге будет рассказано, где, на мой взгляд, следует искать «ответ на главный вопрос»: на что человечеству можно надеяться, на что рассчитывать.
К сожалению, я не религиозен – таким сформировали меня среда и воспитание. Говорю «к сожалению», потому что в жестокие времена, на которые пришлась
Страница 2
моя жизнь, опора в виде религии была бы великим утешением, источником силы. Мне не раз доводилось испытывать острое чувство зависти к людям, которые наделены даром искренней веры. Но кроме собственной души и разума черпать силу мне было неоткуда – за исключением нескольких счастливых лет я провел свою жизнь в душевном одиночестве. Пишу это безо всякой жалости к себе, ведь то же самое, вероятно, скажут очень многие мои соотечественники и современники. От большинства меня отличает, вероятно, лишь привычка к письменной рефлексии, то есть потребность разобраться в важных вопросах бытия, излагая ход и результат своих рассуждений на бумаге. Я – продукт бумажной цивилизации; мысль и даже чувство становятся для меня реальными, лишь обретя вид строчек.Я начал вести записки в самый тяжелый период своей жизни, но эта книга не касается обстоятельств моей биографии. В конце концов, это частности, погружение в которые лишь замутнило бы картину, а мне хотелось и хочется, чтобы она была предельно ясной. Я ничего из этих «частностей» не забыл и не забуду до смертного часа, но я намеренно оставляю эмоции за скобками изложения. Иначе я не написал бы того, что должен написать, и не разобрался бы в том, в чем должен разобраться.
Сначала я не мог себе объяснить, почему меня тянет углубиться в ту или иную тему, вдруг завладевавшую моими мыслями; иногда казалось, что эти разрозненные штудии не очень связаны между собой. Только теперь, достигнув зрелого возраста, я вдруг осознал, что все эти годы, будто действуя по составленному кем-то плану, последовательно и упорно работал над одной и той же книгой. Ее содержание и общая концепция сделались мне ясны. По жанру она является трактатом – это старинное, несколько напыщенное слово, как мне кажется, подходит здесь лучше всего. Мой трактат еще не окончен, многое остается недодуманным и недопонятым. Тем не менее, я достиг этапа, когда могу охватить взглядом как уже пройденный мною путь, так и тот, который еще осталось пройти. Сегодня я в состоянии сформулировать суть моих изысканий.
Начну с того, с чего и следует начинать – то есть, с ответа на основополагающие вопросы, которые так или иначе решает для себя всякий человек, даже если ни разу ни о чем подобном не задумывался. Речь, разумеется, идет о смысле жизни. Я сказал «вопросы», потому что их, собственно, два: есть ли в нашем – моем – существовании некий смысл, выходящий за рамки животного выживания; и если смысл есть, то в чем он заключается?
Это может показаться странным, но сей вопрос вопросов никогда не представлял для меня трудности. Ответ на него я узнал – верней, ощутил прежде, чем узнал – в довольно раннем возрасте. Для этого сначала нужно было выработать точку зрения на то, что являет собой «человек» и чем он отличается от прочих животных.
Как известно, есть несколько определений главной отличительной особенности человека. Я всегда придерживался одного из самых распространенных: человек – это существо, обладающее свободой выбора, а стало быть, всегда могущее измениться по отношению к себе прежнему – как в лучшую, так и в худшую сторону.
Естественно, сразу же возникает вопрос: а что такое лучшая и худшая «сторона» применительно к человеку? Вопрос этот не так прост, как кажется. В ответе очень трудно отойти от этических стереотипов, впитанных каждым из нас в детстве. Но стереотипы эти разнятся в зависимости от среды, культуры, религиозности/нерелигиозности и т. п. Кроме того, на протяжении моего века эти представления делали невообразимые зигзаги, так что прежнее плохое объявлялось прекрасным и наоборот.
Во времена моей гимназической и студенческой юности, например, чем-то совершенно неприемлемым для порядочного человека считалось доносительство. Уличенного в этом постыдном преступлении подвергали общественному остракизму. Но каких-нибудь два десятилетия спустя преступлением, не только моральным, но и уголовным, стало почитаться недоносительство – в том числе на ближайших родственников. Юный пионер, донесший на собственного отца, стал образцом, на котором воспитывают детей. Нравственность – категория не абсолютная, а относительная, гласит этика тоталитарных государств середины XX века: этично то, что полезно для партии (национал-социалистической или коммунистической, неважно).
Мне понадобилось много времени, чтобы безэмоционально и объективно решить задачку о том, что такое хорошо и что такое плохо для всякого человека.
Вот мой ответ: хорошо – всё, помогающее раскрыть самое ценное, что заложено в тебя природой; плохо – всё, что этому мешает.
Поясню. Я глубоко убежден, что сущностная ценность личности заключается в том, что каждый человек, без исключений, несет в себе некий дар, в котором ему нет равных. Я имею в виду дар не мистический, а вполне реальный: каждый из нас потенциально может делать что-то полезное или радостное (одним словом, ценное для окружающих) лучше всех на свете. Это не обязательно нечто творческое или каждодневно применимое. Я знавал одного солдата, человека совсем нераз
Страница 3
итого, косноязычного, и за это презираемого товарищами, который в исключительной ситуации спас весь свой эскадрон. Во время панического отступления сто человек и сто лошадей оказались ночью среди непроходимой топи и, без сомнения, все бы там сгинули, если бы не этот пария, которого все считали полудурком. Он молча вышел вперед и, по-звериному пригнувшись к самой воде, повел отряд за собой. Он чувствовал, куда можно ступить, а куда нельзя. И все спаслись. Нечего и говорить, что после этого случая к обладателю странного дара товарищи относились совсем иначе. Его ценность, которая могла бы до конца жизни остаться неоткрытой, стала для всех очевидна.Если бы наше общество было устроено правильным образом, то важнейшей из наук являлась бы педагогика, и назначение ее заключалось бы в том, чтобы нащупать и развить в каждом ребенке присущий ему и только ему драгоценный талант. Не только для общественной пользы, но и для блага самого ребенка, будущего человека. Ибо тот, в ком полностью раскрылся присущий ему талант, ведет и ощущает себя совсем иначе. Он полон сознания своей значимости, которая удерживает его от множества низких и мелких поступков, недостойных его дара. Сегодня часто случается, что у гения (более корректно было бы называть такой индивидуум «вполне раскрывшейся личностью») кружится голова от сознания своего величия, а это приводит к нарушению нравственного баланса в отношениях с другими: он уникален, а они взаимозаменяемы, поэтому ему дозволено то, что не дозволено им. Но это заблуждение вызвано тем, что «вполне раскрывшиеся личности» сегодня крайне редки, они представляют собой результат счастливого стечения обстоятельств (допустим, Иоганну Себастьяну Баху, ребенку с потенцией гениального композитора, повезло родиться в семье музыканта). Если же гениями и талантами, каждый в своем роде, будут все, то и задирать нос станет не перед кем. Один – выдающийся врач, другой – фантастический булочник, третий – маэстро столярного дела, четвертый – маг садоводства, пятый – светоч государственного управления, шестой умеет превращать жизнь в праздник, седьмой красит стены домов так, что в них радостно жить, и так далее, и так далее.
Итак, повторю еще раз: хорошо всё то, что помогает человеку приблизиться к неповторимой траектории своей индивидуальности, подобрать ключ к своему дару. Лучшее из существующих обществ такое, где каждый человек, вне зависимости от происхождения и положения, имеет больше возможностей раскрыться и развиться, прожить свою жизнь, а не ту, что навязывают ему извне. Если в основополагающем документе вновь создаваемого государства (я имею в виду американскую «Декларацию независимости») заявляется, что всякий человек обладает «неотчуждаемыми правами» на жизнь, свободу и стремлению к счастью, это уже очень много, особенно для восемнадцатого века. По моему убеждению, счастливой можно назвать жизнь, если она была полностью реализована, если человек сумел раскрыть свой Дар и поделился им с миром[1 - Я признаю, что счастье бывает и другого происхождения – дарованное счастливой любовью, этим волшебным заменителем самореализации. Если бы не свет и тепло любви, жизнь большинства людей, до самой смерти не нашедших себя, была бы невыносима. Предполагаю, впрочем, что способность любви – тоже Дар, которым обладают не все и не в равной мере. Однако я не могу углубляться в этот особый аспект, поскольку никак не являюсь в нем экспертом. Мне почему-то кажется, что в природе любви способна лучше разобраться женщина. Во всяком случае, я бы прочитал такой трактат с интересом.].
Есть ли в истории человечества хоть какой-то прогресс, какое-то движение вперед в этом смысле?
Еще сорок лет назад большинство мыслителей сочли бы вопрос риторическим и уверенно ответили: конечно, есть. Сейчас, в середине века, после двух ужасных войн, после невообразимых зверств, свидетелем которых стало мое поколение, голоса позитивистов звучат куда менее бодро. И всё же, несмотря на то, что мне выпало находиться в одной из самых мрачных расщелин этого провала в варварство, я убежден: прогресс есть, человечество развивается в верном направлении, просто движение это не линейно и сопровождается рецидивами.
Развитие homo sapiens проявляется в постепенной смене мотиваций его социального и нравственного поведения. Рабы трудились, чтобы избежать ударов кнута; в двадцатом веке граждане демократических стран работают, чтобы улучшить свое материальное положение; люди завтрашнего дня будут выбирать себе дело по интересу и призванию.
В историческом «вчера» законы соблюдались из страха перед наказанием; «сегодня» (я опять-таки говорю о жителях демократий) очень многие члены общества законопослушны по убеждению; «завтра» надобность в строго регламентированной системе запретов и уголовных наказаниях отпадет, потому что психически здоровому человеку не придет в голову убивать, грабить или насиловать. Нравственность вплоть до недавних времен держалась главным образом на религиозном запугивании, страхе перед неизбежным ответом перед ве
Страница 4
десущим Господом; происходящий в нашем столетии кризис веры обнаружил, что опасение Достоевского (если не станет Бога, всё окажется дозволено) несостоятельно – современный человек может вести себя нравственно и без угрозы Преисподней.В этих произошедших и еще предстоящих переменах и состоит истинный прогресс – в самосовершенствовании человечества как суммы личностей, из которых оно состоит.
Мы не столь уж малого добились, учитывая юность и незрелость нашей цивилизации. И хоть еще во времена Экклесиаста считалось, что нет ничего нового под солнцем, это смешное заблуждение: три тысячи лет спустя человечество всё еще шагает по целине, открывает новые законы мира и собственного устройства, как духовного, так и физического. Мы находимся в ранней поре своей биографии, где-то на пороге подростковости со всеми атрибутами этого трудного возраста – детской жестокостью, легкомыслием, непоследовательностью, неопрятностью и мучительной неуверенностью в себе.
Жизнь на Земле существует миллионы лет. По сравнению с этим сроком наша цивилизация появилась и пустила корни не то что вчера, а, можно сказать, несколько минут назад. Началом отсчета следует считать не момент, когда первый homo sapiens сделал каменный топор, а момент, когда хотя бы в одном очаге человеческой популяции изобрели письменность, создав начатки коллективной памяти. Без какого-то, хотя бы смутного представления о своем прошлом коллективное сознание рода пребывает в сумерках раннего младенчества. Мы, люди, помним себя (а стало быть, можем оценивать свое развитие) на отрезке в пять тысяч лет. За это время сменились всего лишь полтораста или двести поколений. Невообразимо далекие времена основателя Руси святого князя Владимира, в сведениях о котором больше легенд, чем правдоподобных фактов, отделены от нас только тридцатью звеньями предков; прадед моего прадеда родился в царствование Петра Первого, когда колдунов жгли на кострах, а государевых врагов сажали на кол.
Конечно, я вижу завоевания прогресса не в том, что врагов государства в мои времена не сажали на кол, а расстреливали во рвах или отправляли в газовые печи. Завоевание прогресса в том, что в семнадцатом столетии жестокость была нормой, а сегодня она рассматривается как аномалия и преступление.
Еще совсем недавно человечество повсеместно существовало по жизненному циклу животного: тратило все свои силы на добывание пищи, производило потомство, умирало. Да и сегодня во многих частях света, включая мою бедную родину, большая часть населения живет точно так же. Разве есть хоть какой-то шанс на раскрытие своих способностей у ребенка, родившегося в нашей нищей, бесправной деревне, в спившемся полууголовном пригороде или чахоточном шахтерском поселке?
Однако оценивать уровень развития человеческой цивилизации по худшим ее зонам все равно что судить о Пушкине по самым слабым его стихотворениям. Если же мы возьмем для рассмотрения области планеты, в которых человечество достигло наиболее высоких ступеней развития, прогресс по сравнению с прежними эпохами должен быть очевиден.
В конце концов, можно представить себе страну, далее всех продвинувшуюся по пути цивилизованности (какую-нибудь предположительную Нордландию), и страну в этом смысле самую отсталую (скажем, опять-таки условно, Зюйдландию), как одно и то же общество, находящееся на разных этапах развития. Там, где Нордландия находится сегодня, Зюйдландия окажется через сто или двести лет: избавится от голода, детской смертности, грубого насилия, невежества, научится уважать права личности. Во всяком случае, передовые деятели Зюйдландии, говоря о достойном и счастливом будущем своей страны, наверняка будут иметь в виду нечто «нордландиеобразное».
Только не нужно совершать грубой ошибки, сводя всю разницу к богатству и бедности. Связь между уровнем цивилизованности общества и уровнем материального достатка безусловно существует, и самая прямая – я подробно останавливаюсь на этом в одной из последующих глав. Однако «сытость» для прогресса является условием хоть и обязательным, но далеко не исчерпывающим.
Пришло время высказать, пока очень осторожно, главную мысль, содержащуюся в моем сочинении.
Сущностное различие между жителем условной Нордландии и условной Зюйдландии (каковой, впрочем, вполне можно считать и мою родину, не условный, а совершенно конкретный и вполне «нордный» СССР) заключается в некоем внутреннем качестве, концентрация которого определяет стадию развития общества.
Именно это трудноопределимое Качество, которому я медлю дать название, и является темой исследования протяженностью во всю мою жизнь.
Некоторым, очень немногим людям оно достается от рождения. Мне посчастливилось встретить и близко знать таких самородков. Они попадаются во всех народах и в самых разных социальных слоях.
Но большинство индивидов с сильно выраженным Качеством получились такими в ходе становления и развития личности, под воздействием воспитания и внутренней работы. Нечего и говорить, что в странах и социальных средах, которы
Страница 5
находятся на относительно более высокой ступени развития, вследствие благоприятных условий среды выше и пропорция таких людей.Человек, обладающий хорошо развитым Качеством (пока по-прежнему оставляю его без названия), сразу виден. В таком обществе, каким является моя страна, в течение долгих лет подвергающаяся тяжким испытаниям, он даже бросается в глаза, как дерево посреди голой пустыни. Когда-то вокруг меня таких людей было множество, во всяком случае во много раз больше. Но Качество, благотворное при движении общества вверх, становится смертельно опасным для своего обладателя, когда история делает рывок вспять, в пучину дикости и насилия. В этих джунглях эффективны лишь самые примитивные законы выживания, и Качество делается обузой. Поэтому те, кто не пожелал или не смог им пожертвовать, за редчайшими исключениями покинули родину или погибли. Уцелевшие экземпляры сегодня воспринимаются молодым поколением как чудо – или, скорее, как чудаки. Но я знаю, вижу, что, едва отступил всепроникающий страх и обладание Качеством стало грозить уже не тюрьмой, а всего лишь сумой, как в моей стране потихоньку начала восстанавливаться естественная пропорция тех самых самородков, кого природа наделяет Качеством от рождения. Не думаю, чтобы кто-то проводил статистические исследования в этой области, однако по моим жизненным наблюдениям из каждых ста явившихся на свет один будет абсолютно «светел» (то есть щедро, неиссякаемо одарен Качеством), один абсолютно «темен» (своего рода инвалид, душа которого неспособна эволюционировать), остальные же в разной степени «серы» и мимикрируют – светлеют либо темнеют – в зависимости от установившегося нравственного климата. Во времена диктатур или войн к власти неизбежно приходит наихудший процент человечества, потому что принуждение и насилие – его родная стихия. «Темный процент» только что, на наших глазах, пережил свой золотой век, и, хоть я надеюсь, что могущества гитлеровско-сталинского масштаба у этой фракции никогда больше не будет, рецидивы в отдельных регионах планеты, конечно, неизбежны. Добившись господства в России, Италии или Германии, «темный процент» немедленно начинал окрашивать в черный цвет «серые» девяносто восемь процентов, потакая их низменным инстинктам, и последовательно истреблял тех, кто принадлежал к «светлой» сотой[2 - Отдельный вопрос – как должно общество, в котором окончательно победил Свет, поступать с людьми, патологически неспособными к душевному развитию. Полагаю, их будут лечить, как сегодня лечат душевнобольных, однако оставим эту проблему для будущих счастливых времен.].
А между тем стадия развития общества напрямую зависит от того, сколько в нем людей, обладающих Качеством. Обычно оно появляется и укрепляется внутри какой-то отдельной группы или сословия, где в силу исторически сложившихся обстоятельств возникает особая питательная среда. Когда таких особей становится много – не большинство, а хотя бы некое значительное количество, они начинают задавать тон поведения и влекут за собой всё общество в целом, потому что в этих людях есть притягательность, род магии, привлекательной для окружающих. Человеку с Качеством хочется подражать, хочется стать таким же, как он. В этом великая сила Качества.
Государства, которые сегодня считаются наиболее развитыми в гуманитарном отношении – это сплошь страны, где авторитет таких людей и отождествляемого с ними Качества высок. Но и в этих блаженных Нордландиях Качество нигде пока не находится у власти. В лучшем случае можно говорить о его сильном духовном влиянии.
Суммируя, повторю свою логическую цепочку, чтобы можно было двигаться дальше.
Итак, по моему убеждению, назначение человеческой жизни в том, чтобы прожить ее сполна, достичь полного раскрытия бутона, который носит в себе всякий человек (следуя ботанической метафоре, назову этот результат «Расцветом»).
Достижению Расцвета помогает некое Качество.
Общество становится лучше, то есть предоставляет своим членам больше возможностей для Расцвета, когда повышается средний градус этого Качества.
Средний градус Качества поднимается, когда в данном обществе увеличиваются количество и вес людей с высоким индивидуальным градусом Качества.
В свою очередь, индивидуальный градус Качества быстрее и полноценнее созревает в обществе, нравственный климат которого способствует пробуждению в среднем человеке лучших, а не худших свойств его души[3 - Сейчас просто оговорюсь, а позднее изложу подробно, почему для Расцвета необходим высокий уровень нравственности – в том самом общечеловеческом своде правил, который обычно внушают нам в детстве: веди себя с людьми так, как, по твоему мнению, люди должны поступать с тобой; не предавай, не кради, не будь жестоким, не жадничай, не ври, и так далее, и так далее. Более или менее всюду эти правила считаются прописными – если, конечно, в данном обществе по стенам детских садов не развешаны портреты Гитлера, Сталина или какого-то иного лжебога, поклонение которому заменяет традиционную нравственность.].
Страница 6
Но это не притча о яйце и курице либо змее, ухватившей себя за хвост. Процесс улучшения человека имеет стартовую точку и свои законы, которые возможно исследовать. Конечно, эволюция души – категория трудно определимая, но лишь до тех пор, пока не появится метод измерения. Еще Галилеем сказано применительно к назначению науки: «Измерить всё, что поддается измерению, а что не поддается – сделать измеряемым». В своей книге я делаю попытку предложить метод, который позволяет анализировать, измерять и даже градуировать самый важный из параметров развития человечества.
Повторюсь еще раз: я не ставил и не ставлю задачи убедить в своей правоте всех; довольно того, что эта система помогает разобраться в проблеме мне самому.
Чтоб завершить вступление, мне осталось сделать только одно: дать название Качеству, этому драгоценному свойству, которое так медленно и трудно накапливается человечеством в ходе эволюции. Я ввожу этот новый термин, вполне понимая его неопределенность. К сожалению, ничего более корректного придумать я не сумел. Как ни странно, слово, в точности соответствующее этому понятию, отсутствует во всех знакомых мне языках.
Качество, от которого, как я убежден, зависит судьба человечества, я назвал «аристономией».
(Из семейного фотоальбома)
* * *
«При жизни А. не был любим. Наружность его не отличалась привлекательностью. Он был малого роста, сухощав, близорук и картав; на губах его играла язвительная улыбка; он был холоден и насмешлив».
Прочтя эти строки, Антон вздрогнул.
У него была тайная обсессия, про которую он никому не рассказывал, потому что как и кому про такое расскажешь?
Лет с четырнадцати, то есть с возраста, когда начинаешь становиться мыслящей личностью, Антон всё настраивал себя на считывание посланий – неких мистических знаков, адресованных персонально ему в подтверждение его исключительности и единственности, в доказательство особенных отношений, существующих между ним, Антоном, и Кем-то, Кого (или Что?) люди религиозные называют Богом, самому же Антону больше нравился термин, придуманный Робеспьером: Верховное Существо.
Знаки были многообразны и непредсказуемы. Антон хранил в памяти каждый.
Первый был явлен пять лет назад, в те самые дни, когда он очнулся. То есть перестал быть ребенком, которого ведут за ручку, и вдруг осознал: я – один на один с жизнью, и всегда буду один, и никто никогда меня полностью, до конца не поймет, и очень хорошо, что не поймет, и Тайна Бытия никем до сих пор не разгадана, но мало кто этим мучается, а все живут себе мелкими повседневными заботами, будто муравьи или мухи, а я так жить не смогу и не буду, потому что мне открылась истина. Четырнадцатилетний Антон не мог бы объяснить, в чем эта истина заключалась, – пожалуй, в осознании своей единственности, своей абсолютной незащищенности и своего бескрайнего могущества.
Дело было летом, ночью, на даче. В небе горели звезды, и одна из них мигнула, и он понял: «Это мне знак, меня услышали, я – это я». Несколько дней потом ходил, как в лихорадке, смотрел на всех вокруг со снисходительным презрением: муравьи, мухи. Осенью, издалека и осторожно, завел на эту тему разговор с гимназическим приятелем Колей Лацисом, мальчиком начитанным и умным. Тот немного послушал, кивнул. «А-а, – сказал небрежно, – думай-думай. Полезно для развития личности. Про Бога, вечность, бесконечность и прочие ребусы. Я в прошлом году тоже чуть себе голову не свихнул. Только велосипед не изобретай. Почитай историю философии, там всё жевано-пережевано». Историю философии Антон читать не стал, на Кольку обиделся и откровенничать с людьми навсегда зарекся. Послания же выискивал и коллекционировал.
Например, шел он как-то, давно, из гимназии, был ясный весенний день, по реке плыли белые глыбы, и стало невыносимо жаль, что всё это – весна, щекотный воздух, скрип подтаявших льдинок под ногами – уходит навсегда и никогда больше не повторится, то есть повторится, конечно, но уже не так, не совсем так, и сам он будет другим, а люди вокруг идут с глупыми, пустыми лицами, и ни один не задумывается, что ничего не вернешь, и катятся себе от рождения к старости беспечными, бессмысленными колобками. А на набережной, к которой Антон двигался по Троицкому мосту, стояли экипажи и авто. Погода была чудесная, первый ясный день, многие приехали прогуляться по Марсову полю. Антон вдруг загадал: «Если, пока я иду через реку, вон та коляска, со сверкающей дверцей, отъедет, моя жизнь будет особенной, не как у всех. А не отъедет – проживу дюжинно и заурядно, Акакием Акакиевичем Башмачкиным». Загадал – и сам испугался. Сердце сжалось. Начал себя переубеждать, что глупости, ребячество. И вдруг – он прошел не больше двадцати шагов – черный бок пролетки брызнул искорками, и она тронулась с места, одна из всего ряда! Антон потом посчитал. Их там шестнадцать было, экипажей и автомобилей. Мог ведь вообще ни один с места не тронуться!
Ладно, пускай тогда было случайное совпадение – маловероятное, один шанс из шестн
Страница 7
дцати. Но происходили же впоследствии и другие случаи. Последний по времени – двухмесячной давности, совершенно поразительный.Шел по Невскому, мимо остановки. Там, как всегда, «хвост», давка. Подошел трамвай, все толкаются у задней площадки, а несколько человек желают войти через переднюю дверь, предназначенную для льготников – инвалидов войны, дам в положении, полицейских при исполнении служебных обязанностей. Теперь уже трудно поверить, что когда-то, до войны, трамвай считался респектабельным видом транспорта. Вагонов стало меньше, потому что старые ломаются, а новых из-за границы не доставляют. Число пассажиров, наоборот, десятикратно возросло, ибо десять копеек уже не деньги, и многие ездят по льготному тарифу или вообще освобождены от платы. Сам Антон на трамвае ездить зарекся, разве что поздно вечером, когда пусто.
В общем, шел он себе мимо толковища, размышлял на одну из постоянных своих тем: должен ли человек, чувствующий особость своей судьбы и не боящийся этого, прикидываться, будто он такой же, как все? Или это малодушие? Робость, которую нужно преодолеть? Ведь сегодня во время диспута на семинаре по истории права ему было что сказать по поводу «Салической правды», но он стушевался и промолчал. И, как обычно, последнее слово осталось за демагогом Сухаревым, потому что у него апломб и нахрап. А надо было попросить слова, выйти вперед и врезать: «Сравнивать франкских литов с российскими крепостными – чистейшая вульгаризация, подмена понятий!» И только Антон про это подумал, представил, как он выходит вперед, а вся аудитория ему внимает, – вдруг слышит (на остановке кто-то выкрикнул, дребезжащим истеричным голосом):
– Куда лезешь? Умный какой! Стой, как все люди стоят! Еще вас, клобуков, вперед пускай! Не дождетеся!
У Антона дыхание оборвалось. Вот и ответ! Это же он – Клобуков. Антон Маркович Клобуков.
Там, у передней площадки, топтался монах в островерхой черной шапочке, это ему кричали из «хвоста». Чернец, наверное, приехал из глухомани и просто не знал правил. Да бог с ним, с монахом! Разве в нем дело? Слово «клобук» не относится к числу распространенных, монашескую скуфейку так никто не называет, уж во всяком случае не человек, говорящий «не дождетеся». Это было послание, самое что ни на есть прямое, неприкрытое. И смысл его очевиден: вот он, ответ на твой вопрос.
Всякий раз, сказав себе: «Это оно, несомненно оно», Антон испытывал ощущение, которое, вероятно, и называют «мистическим ознобом»: по коже рассыпались мурашки, сердце чуть сжималось от удовольствия и маленького, не очень страшного страха. Удовольствия было больше. «Я – это я», думал в такие мгновения Антон и, если неподалеку было зеркало, оконное стекло или витрина, непроизвольно глядел на свое отражение.
Сейчас сделать это было легко. Он поднялся, подошел к гардеробу и остановился перед зеркальной дверцей.
Всё совпадало в точности. Никем не любим (родители не в счет, им любить продукт своих чресел положено по социобиологической функции). Некрасив, мал ростом, щупл, в очках. Картав – букву «р» раскатывает, будто горло полощет. Язвительная улыбка – вот она, пожалуйста. Только насчет «холоден»… Вообще-то не особенно. При малейшей ерунде, пустяковом волнении кровь к лицу, дрожь в пальцах, и потом долго нужно себя уговаривать, чтоб успокоился. Но в смысле не нервическом, а мировоззренческом безусловно холоден. Не деятель – наблюдатель. А лучше сказать «созерцатель».
Пять минут назад Антон сел готовить реферат для семинара по философии права. Тема – «Закон и государство в учении Аристотеля». Решил начать со сведений общего характера. В отцовском кабинете взял черно-золотой том «Брокгауза и Эфрона», открыл статью «Аристотель» – и вот вам, получайте. Явное, несомненное послание. Притом с легко угадываемым значением. Лестным. Тот, другой «А.», величайшая фигура в истории человеческой мысли, был в начале жизни безвестен и никому не интересен.
Человека, помимо качеств, заложенных природой (читай: Кем-то, Чем-то), делает великим эпоха. Времена бывают плоскими и скучными, как среднерусская равнина, а бывают вздыбленными, когда тектонический сдвиг пластов истории образует островерхие хребты и бездонные впадины, когда сшибаются материки и тонут атлантиды. Вот почему блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Такой была эпоха Аристотеля и Александра Македонского. Но в еще большей степени, в несравненно более грандиозном масштабе такова нынешняя эпоха.
Времена небывалые. Страшные, величественные. Скорлупа прежней жизни трескается под мощными ударами бронированного клюва, из Мирового Яйца вылупляется Птенец. Кем он окажется – стервятником Апокалипсиса или райской птицей, неведомо. Будущее, уготованное выжившим в войне, может оказаться прекрасным или чудовищным, но ясно одно: как жили прежде, больше не будет. Поэтому тех, кто уже стар или даже в среднем возрасте, Антону было жалко. Они не приспособятся, они не впишутся. Новорожденный мир будет принадлежать молодым. Таким, как он.
Когда в девятнадцать лет твер
Страница 8
о знаешь, что ты избранный, – захватывает дух.Антон стоял перед зеркалом и пытался представить, каким он станет через десять, через двадцать лет. Верно, переменится до неузнаваемости. Мама в юности тоже была нехороша. Широкий лоб, маленькие припухлые глаза, скуластость – это от нее. Неправильность черт у Татьяны Ипатьевны с годами никуда не делась, но проступил характер, воссияла личность, и лицо, прежде некрасивое, сделалось интересным, значительным. То же, будем надеяться, произойдет и с бледной, невзрачной физиономией, мигающей на нас из зеркала.
Поежился в овчинной безрукавке. Холодно. Городской закон обязывает домовладельцев поддерживать температуру в жилых помещениях не ниже 13 градусов, а хозяин еще градус-другой ужуливает. Квартиранты подогреваются своими средствами – кто топит камин, кто завел чугунную печку. Но дрова и уголь баснословно дороги. Отец сказал: «Безнравственно шиковать, когда беднота мерзнет. Люди терпят, будем терпеть и мы». А у самого неотступный кашель, скачки температуры, и холод ему опасен.
Только в профиле, пожалуй (Антон повернул голову и скосил глаза), проступало отцовское – породистая очерченность носа, подбородка. Марк Константинович в молодости был красавец. А дед, тот вообще был декабрист. На овальном миниатюрном портрете почти вековой давности юный Константин Клобуков – в кавалергардской кирасе, с подвитыми перышками на висках – выглядит принцем из романтической баллады.
На самом-то деле (папа рассказывал) дед был вздорен, тяжел характером. Его роль в заговоре, кажется, была незначительна, и каторгу он получил исключительно за строптивость, проявленную во время следствия. По той же причине надолго застрял в «местах не столь отдаленных». Женился на шестом десятке, только после амнистии. В положении ссыльного обзаводиться семьей дед не желал. Говорил, что он из породы, которая в неволе не размножается. Свобода передвижения притом ему была нужна исключительно из принципа, потому что на запад он не вернулся, так и умер иркутским мещанином, ибо восстанавливаться в правах дворянства отказался, из гордости. А род-то древний, шестнадцатого столетия. Одно время Антон пытался уговорить отца подать прошение в Департамент герольдии, но Марк Константинович сначала отшучивался, а потом рассердился. «Дворянское звание – стигмат позора, – сказал он двенадцатилетнему сыну. – Вроде Каиновой печати. Нам должно быть стыдно, что наши предки жировали за счет крепостных крестьян». Так-то оно так, но все равно жалко.
Отец родился в день манифеста об освобождении крестьян и, кажется, тоже считал это своим персональным судьбоопределяющим посланием. Вероятно, сыграло роль и имя. Сибирский упрямец нарек своего отпрыска в честь Марка Аврелия. Два других сына, дядя Зина и дядя Сеня, тоже получили имена со значением: Зенон и Сенека. Тетю Лушу полностью звали Лукреция Константиновна. Все они обитали в Сибири, Антон видел их редко. Отец единственный из своего стоического семейства обосновался в Петербурге. Врачи сказали, что слабогрудому мальчику вредны иркутские зимы, поэтому с десяти лет Марк жил у родственников, в столице, где учился и потом преподавал, а когда снова, не по своей воле, очутился в родных местах, дедушки Константина Григорьевича на свете уже не было.
Событие, переломившее мирную жизнь приват-доцента Клобукова, в семье получило название «Холокаустос». Этим словом (по-гречески – «вселенская катастрофа») Марк Константинович со всегдашней мягкой иронией называл студенческие беспорядки 1897 года, в результате которых он не только потерял место, но и был выслан в административном порядке под надзор полиции. Сегодня ровно двадцать лет с того рокового дня, когда вышел указ министра об исключении мятежных студентов и немедленном применении к ним закона о всеобщей воинской повинности. Приват-доцент Клобуков публично объявил о солидарности с репрессированными и в тот же день сам оказался сначала за университетскими вратами, а затем и пятью тысячами верст восточнее. К научным занятиям и преподаванию впоследствии он так и не вернулся.
Для семьи Клобуковых тот день был особенным и еще в одном смысле, который, собственно, и придавал слову «Холокаустос» несколько юмористический оттенок. Антон слышал эту историю много раз. Отец очень комично рассказывал, как вечером, когда он, «пятою Рока в прах попранный», сидел дома и предавался унынию, к нему явилась «некая юная особа с горящим взором», перекинула его через седло и увезла, не спрашивая согласия. Двадцатилетняя курсистка, прежде видевшая приват-доцента только на лекциях по юриспруденции, пришла и сказала, что хочет быть его женой и разделить с ним судьбу, какою бы та ни была. Поженились они уже в Иркутске. Отец шутливо называл сына «дитя Катастрофы». Однажды Антону пришло в голову посчитать, когда он был зачат, и получилось, что в конце января, за полгода до свадьбы – очень возможно, в тот самый вечер. Думать об этом было конфузно. Антон и не думал, придерживал свое и без того слишком резвое воображение.
Вечером 27 января к от
Страница 9
у всегда приходили его бывшие питомцы – те самые, исключенные. До войны в небольшой квартире собиралось по тридцать, сорок человек. Все шумели, перекрикивали друг друга, хохотали, пели песни. В прошлом и позапрошлом году гостей было немного. Сегодня вообще никого не ждали, потому что Марк Константинович совсем ослаб, почти не вставал с постели, и мать разослала городские телеграммы, а у кого есть телефон – тем позвонила: не приходите, болеет.Но тихого вечера все-таки не вышло. Из гостиной до комнаты, в которой Антон корпел над своим рефератом, доносились голоса. Двое всегдашних «холокаустовцев» не получили маминого предупреждения. Один, Бердышев, приехал прямо с вокзала, был на Кавказе по делам Военно-промышленного комитета. Другой, Знаменский, только что вернулся с Северного фронта, куда ездил с думской делегацией. Оба, как обычно, явились с женами. Не указывать же на дверь?
Отец надел куртку, сел в кресло, под плед. Паша умчалась в метель с ответственным заданием: добыть какой-нибудь закуски и, если удастся, хоть пару бутылок вина. В ресторане, конечно, потому что магазины уже закрыты и в любом случае вина там давным-давно не продают – сухой закон.
Антон думал присоединиться к общей компании, но случился маленький казус. А может быть, не случился – примерещился. Может, сам себе напридумывал.
Будто Зинаида Алексеевна, жена Петра Кирилловича Бердышева, поймала Антонов взгляд, когда снимала ботики («нет-нет, Танечка, не уговаривайте, сниму, жарко»), а он уставился на ее тонкую, в прозрачном чулке щиколотку. Зинаида Алексеевна была еще молодая, хорошенькая, с нежным голосом, к которому хотелось прислушиваться, что бы он ни говорил. Посмотрела она лукаво или просто так легли тени? Антон почувствовал, что краснеет, пробормотал, что ему нужно заниматься, ушел.
Стыдно, как стыдно! А если все-таки не тени? Если она скажет Петру Кирилловичу, что он на нее плотоядно пялился? Тогда только выкинуться из окна.
Животное начало в человеке, который готовится к особенной, небывалой судьбе, отвратительно. Унизительней всего, что оно сильнее тебя. Третьего дня Паша мыла полы, так он ничего не мог с собой поделать – несколько раз прошел мимо, чтобы посмотреть на ее полные розовые ноги под высоко, до колен, подоткнутой юбкой. Паша даже прикрикнула: «Хватит шляться! Мешаешь!» А если б догадалась? Ужасно. И, главное, пошлость какая! Трехкопеечный барчук строит горничной куры. Ну то есть никаких кур он, конечно, не строит, но ведь это Паша, член семьи, почти сестра!
На войну надо идти, вот что. Не дожидаться призывного возраста, а просто записаться добровольцем, как сделали многие. Но что дальше? Стрелять ни в чем не повинных немцев – преступление, здесь отец стопроцентно прав. Поступить в медбратья? Пробовал уже, еще два года назад. Вырвало в перевязочной, позорно. «Кишка у тебя, парень, тонкая», – презрительно сказал санитар Куценко.
В телефонисты можно. Или шофером, еще лучше. Но в армии ведь, наверно, не спросят? Пошлют, куда им надо. Все-таки медицина благородней всего. Никаких компромиссов с совестью, все тебе благодарны – и ощущение нужности, вот что самое важное. Надо преодолеть слабость. Не отводить глаз от ран, не зажмуриваться при виде крови.
Из гостиной донесся мучительный приступ кашля, и Антон сразу вспомнил, как у отца утром, за завтраком, хлынула черная кровь. Раньше такое случалось только весной или осенью, а теперь чуть не каждый день. В последний год Марк Константинович отрастил бороду. «Интересничаю», шутил он, но Антон догадался: хочет спрятать ввалившиеся щеки. Из-за бороды стало казаться, что это уже не тот папа, которого знаешь и любишь, а другой человек, и если прежде отец был похож на Пророка с полотна Николая Ге «Что есть истина?», то ныне превратился в призрак с картины «Голгофа» того же художника: уже не человек, тень человека.
«Умрет? Скоро умрет?» – спросил Антон отражение в зеркале. «Нет, не может быть», – ответило отражение, но неубедительно ответило. Жалко приморгнуло, дрогнуло губами.
Выступать в суде отец перестал уже давно. Не мог громко говорить, срывался на кашель, а с минувшей осени вовсе перестал работать. Пожелтел лицом, беспрерывно температурил, не расставался с бумажным кульком, куда отплевывал мокроту. Но ведь прошлой зимой было почти так же скверно, однако к лету как-то выправилось?
Вот и приступ кашля закончился, сменился смехом. Отец, если уж начинал смеяться, нескоро останавливался. В гостиной, кажется, говорили о веселом.
Антон вышел в коридор, бесшумно прошел ковровой дорожкой, встал в дверях.
Сидели вокруг стола, на котором под желтым кругом света сиротливая ваза, и больше ничего. Паша рыщет по вечернему городу в поисках угощения, достойного депутата Государственной думы и промышленника-миллионера. Обе супруги, улыбчивая Римма Витальевна (острый взгляд из-под золотого пенсне) и Зинаида Алексеевна (на нее Антон посмотреть не решился), вежливо положили перед собой по кусочку сухого печенья.
Муж Риммы Витальевны адвокат Знаменский дейст
Страница 10
ительно рассказывал смешное. Как в сегодняшней «Русской воле» Амфитеатров напечатал фельетон «Этюды». Все пришли в недоумение от набора трескучих, бессмысленных фраз – ни черта непонятно, с ума он, что ли, сошел?– Звоню автору, – поглаживал эспаньолку Аркадий Львович, до поры пряча улыбку, – спрашиваю: «Что с тобой, Саша, ты не в запое ли?» Он в ответ: «А ты по краешку прочти».
– Как это «по краешку»? – заранее давясь смехом, спросил Марк Константинович. Видимо, его привела в веселость предыдущая история, которой Антон не слышал.
Знаменский, мастер публичных выступлений, вопроса будто не расслышал. Сделал недоуменное лицо.
– Беру газету снова. Верчу так, этак. И вдруг – эврика! Если прочесть первые буквы в каждой строке, сверху вниз, выходит: «Решительно ни о чем писать нельзя». Каково? А цензура прохлопала!
– Скажите, какая отчаянная смелость, – проворчал хмурый Бердышев.
Но отцу хотелось смеяться, и он запрокинул голову, зажмурил от удовольствия запавшие глаза. Лица у всех сделались напряженными. Наблюдать за тем, как смеется Марк Константинович, было страданием – сорвется в кашель или нет?
Антон посмотрел на мать. Она разглядывала костяшки пальцев, тонкие губы плотно сжаты. Будто сейчас разрыдается. Мама – разрыдается? Это было невозможно представить.
Так же тихо он попятился назад в коридор. И вовремя. Кашель-таки грянул. Нескончаемый, с захлебом, с судорожным заглатыванием воздуха.
Оказавшись за прикрытой дверью, Антон снова сел к столу. Где это было? А, вот. «Холоден и насмешлив».
Через минуту постучали.
– К тебе можно?
Петр Кириллович. Стриженные бобриком волосы блеснули в электрическом свете первой, почти незаметной сединой. Спокойные, внимательные глаза без спешки, а в то же время быстро оглядели комнату: узкую кровать, шкаф, книжные полки, стол, карту театра военных действий, чуть задержались на портрете (повешен сегодня утром, для вдохновения).
– Что это ты – Аристотеля в кумиры возвел? – с любопытством спросил Бердышев.
У него была немного странная манера говорить, на новых людей производила неприятное впечатление. Петр Кириллович произносил слова по-написанному: «чьто», «вОзвел». Очень уж четкий человек, не любит, чтоб буква расходилась со словом. Он при Антоне как-то – не совсем всерьез, конечно, – сетовал отцу, что все российские беды происходят из-за лукавого произношения: пишут «порядок» – прононсируют «парядак», зато в слове «бардак», уж будьте уверены, в произношении не ошибутся. У самого Бердышева во всех его многочисленных делах царил идеальный пОрядОк: на фабрике, в подсекции Военно-промышленного комитета, в семье.
– Давно не виделись, – сказал он, в упор рассматривая Антона. – Учишься?
Люди для Петра Кирилловича делились на две категории: те, кого он любил, и все остальные. Антона Бердышев любил, смотрел на него приязненно, всегдашняя ледяная корочка в глазах будто подтаивала.
– Учусь…
– А что так кисло? Юриспруденция не увлекает?
С этим человеком можно было откровенно.
– Кому теперь нужно римское право? Надо было поступать на медицинский…
– Медицина врачует человека, право врачует человечество. – Петр Кириллович назидательно поднял палец, но сухие губы иронически покривились. – А впрочем, не мне тебя агитировать. Как ты знаешь, я факультета не закончил, так и остался неучем.
Он, один из немногих отданных в солдаты, отслужил в армии полный срок и в университет больше не вернулся.
Левая рука фабриканта вынырнула из-за спины, в ней был квадратный сверток.
– Подарок. Извини, что с запозданием.
В этом весь Бердышев. Два с лишним месяца прошло после дня рождения, но Петр Кириллович, несмотря на войну, несмотря на бесчисленные заботы, помнит, что именинник остался без подарка.
Антон стал нетерпеливо разворачивать бумагу.
Портативный «кодак»! Чудо! Он давно мечтал о фотоаппарате, но на подобное роскошество и не зарился! Легонький, берется одной рукой, весь кожаный, с хромированными кнопочками!
Подарки Петра Кирилловича всегда были самые лучшие, даже если не такие дорогие, как этот. Он всё делал обстоятельно, со смыслом, в том числе выбирал подарки.
– Здесь инструкция. Изучай. Ладно, ладно. Не за что. Расти большой.
И ушел.
Аристотель был забыт.
Тэк-с, где же тут объектив? Ого, спрятан под крышкой. Здорово! Выдвигается! И кожух гофрированный! Как вставляется пленка?
Черт, вот некстати! Звонят в дверь. Паша еще не вернулась. Придется идти самому. Он неохотно отложил камеру.
Пока шел до прихожей, позвонили снова – робко, нерешительно.
– Здравствуй, Антон… Я знаю, что сегодня всё отменилось, но…
Высокий и тощий, дурно одетый, весь какой-то нескладный, человек мялся на пороге. В руке мятая шапка, длинные волосы распушились, на воротнике старого пальто снежинки вперемешку с перхотью.
– Здравствуйте, Иннокентий Иванович. Проходите. Пришли Бердышевы и Знаменские, папа будет рад.
Один из любимых папиных рассказов: когда семья только вернулась в столицу и восстанавливала старые связи, жда
Страница 11
и в гости Иннокентия Баха, бывшего папиного студента, и всё пугали маленького Антона – вот придет Бах, задаст тебе бабах, и когда вечером раздался звонок, Антон с ревом забился под кровать.Иннокентий Иванович Бах был совсем не страшный. Наверное, на всем белом свете не нашлось бы ни одного живого существа, которое могло бы его испугаться. Пух на лысеющем темени Баха дыбом, длинный нос – как клюв у сороки, мягкая бородка и усы словно приклеены для смеха, а глаза круглые, детского ясно-голубого оттенка.
– Татьяна Ипатьевна утром телефонировала, предупредила, что ничего не будет, однако… – мямлил гость, переступив порог, но не идя дальше. – У нее был такой голос… Я весь день думал, какой у нее был голос. И вот, решился… Все равно я из госпиталя, с дежурства, почти по дороге… Хорошо, что ты открыл, Антоша. Ты скажи, если я не ко времени, я сразу и уйду… Что нахмурился? Марк Константинович совсем болен? – Бах схватился за сердце худой рукой, в плохо отмытых пятнах йода.
Нахмурился Антон, во-первых, из-за упоминания о госпитале. Вот Иннокентий Иванович – птаха божия, публицист богословского направления, а ходит же в госпиталь, ухаживает за ранеными, в обморок от стонов и крови не падает. Во-вторых, неприятно: Бах придвинулся, а зубы у него гнилые, пахнет изо рта.
– Да ничего, слышите – смеется. Вы проходите в гостиную. Давайте пальто и шапку.
Сам за Бахом не последовал, хотелось вернуться к аппарату, дочитать инструкцию.
Смотрел в окошечко видоискателя, наводил фокус, думал: «Всё, запишусь на фельдшерские курсы. Если уж Бах смог…»
И снова позвонили. Вначале тихо, еще конфузливей, чем Иннокентий Иванович. Антон даже решил – почудилось. Но следующий звонок был резкий, долгий, требовательный. Еще кто-то из «жертв Холокаустоса» явился.
И когда только Паша вернется?
Вот так новости. Таких гостей в доме Клобуковых еще не бывало. На Антона вопросительно смотрел статский генерал (три звезды на петлице – это, кажется, тайный советник?), донельзя важный, с седой бородой, в золотых очках.
– Марк Константинович Клобуков ведь здесь жительствует? – спросил удивительный гость и, что было уж совсем удивительно, смутился, притом видно было, что смущаться этот человек давным-давно разучился, а может быть, и никогда не умел.
– Да. А… Как прикажете доложить? – ляпнул Антон, сообразил, что это прозвучало по-лакейски, и тоже сконфузился.
Но генерал за лакея его не принял.
– Вы, должно быть, сын? В Сибири родились, знаю. Я Ознобишин, Федор Кондратьевич…
Седобородый назвался словно бы с вызовом, втянул щеки, и так монашески проваленные, сделал паузу.
– Вы, верно, про меня слышали?
И спрошено было тоже со значением, чуть ли не грозно.
– Нет, – помотал головой Антон и отступил, чтобы гость мог войти. – Никогда.
Ответ почему-то ужасно расстроил Федора Кондратьевича, будто перерезал нити, державшие его фигуру в натяжении.
– Никогда? – пробормотал он упавшим голосом и весь как-то ссутулился. – Ну все равно. Я войду. Вы скажите отцу, пожалуйста, что Ознобишин пришел… Нет, погодите! – встрепенулся тайный советник, хотя Антон еще не тронулся с места. – Сегодня многие пришли, из бывших студентов?
– Только три человека.
А вот это известие непонятного посетителя, наоборот, вроде бы обрадовало.
– Знаете что? Можно ли я просто войду, без доклада?
– Конечно, можно. Какие у нас доклады? Я провожу.
Повесив на вешалку шинель с золотым галунами, Антон показал генералу, куда идти (догадаться, впрочем, было нетрудно), и на этот раз пошел с гостем. Любопытно же!
Он не был разочарован. Получилось почти как в финальной сцене «Ревизора».
Все обернулись на сухопарую фигуру в вицмундире. Ознобишин всего-то и сказал, сдавленным голосом: «Приветствую почтенное собрание», но, если б он вбежал с истошным воплем, это вряд ли бы произвело больший эффект.
Татьяна Ипатьевна порывисто приподнялась – и снова села. Ее черты исказились, Антон никогда не видел у матери такого выражения лица.
Отец недоверчиво покачал головой.
Аркадий Львович Знаменский ахнул: «Приснится же такое!»
Бердышев сузил глаза, потянул из кармана платок – будто кинжал доставал – и зачем-то вытер пальцы.
Бах сдернул пенсне и часто, испуганно замигал.
Но Зинаида Алексеевна и Римма Витальевна пришедшего, кажется, видели впервые. Первая глядела на него с милой, немного вопросительной улыбкой. Вторая сначала тоже улыбнулась, однако после странного восклицания мужа улыбку убрала и нахмурилась.
– Я Ознобишин. Полагаю, вы обо мне слышали, – сказал генерал, обращаясь к дамам, и скрестил руки на груди. Смущения в нем нисколько не осталось, один только вызов.
Лицо Зинаиды Алексеевны сделалось растерянным, Знаменская же сама себе кивнула, что, вероятно, означало: «я уже догадалась» или, может быть: «а-а, тогда понятно».
Антону стало не по себе. Что-то должно было сейчас произойти. Что-то ужасно неприятное и, возможно, даже страшное.
Но ничего такого не случилось.
– Ну, здравствуй, Примус. Как ты пос
Страница 12
арел. Садись, – сказал отец своим обычным голосом.И всё для Антона прояснилось. По крайней мере главное. О Примусе он слышал, как же. Одно из главных действующих лиц «Холокаустоса», родители его часто поминали. Примус был другом ранней юности и молодости отца. Прозвище получил, потому что закончил гимназию первым учеником, с золотой медалью. Двадцать лет назад они оба состояли при факультете приват-доцентами, только отец на кафедре уголовного права, а Примус – государственного. Когда вышел указ об исключении смутьянов и сдаче в солдаты, Примус единственный из преподавательской молодежи выступил в поддержку этой меры правительства. Выступил публично, на университетском совете. С тех пор дороги прежних друзей разошлись. Больше они не встречались и не разговаривали. Отец часто вспоминал Примуса, всё пытался найти объяснение «парадоксальному поступку» – и не находил. «Главное – зачем? – говорил Марк Константинович. – Ведь никто от него этого не требовал и не ждал. Мог не лезть на рожон, как я, а просто промолчать – как остальные».
– Садись, садись, – повторил отец, потому что Ознобишин медлил. – Это Знаменский, это Бах, это Бердышев. Ты их вряд ли помнишь, это мои студенты, «уголовники».
– Я всех исключенных помню по именам. – Федор Кондратьевич медленно опустился на стул, поморщившись на скрип. – Да и теперь, так сказать, держу в поле зрения.
– По роду службы? – скривил рот Бердышев и пояснил жене. – Этот господин, Зиночка, состоит в Совете министерства внутренних дел. Следит, чтоб Охранное отделение и Департамент полиции не выходили из рамок строгой законности.
Последняя фраза была произнесена с нескрываемой издевкой.
– Очень приятно, – улыбнулась Зинаида Алексеевна, кинув на мужа укоризненный взгляд, в котором читалось: «Мы в гостях, хозяин пригласил человека к столу, держи себя в руках».
Знаменская сама назвала свое имя и отчество. Она была деятельницей женского движения и не признавала условностей. На генерала Римма Витальевна смотрела строго, но без враждебности – скорее выжидательно.
Напряжение несколько спало. Антон понял, что скандала не будет. Во всяком случае, не прямо сейчас. Только мать глядела на Ознобишина всё с той же непримиримостью.
Возникла пауза. Призрак из прошлого нервно щипнул свою длинную бороду, расправил плечи, тронул седую бровь. Он похож на тень гамлетова отца, подумал Антон, всё еще волнуясь.
– Я думал, все уже в сборе, – сказал Ознобишин, Щелкнув крышкой часов. – Одиннадцать, двенадцатый. – Часы были старинные, на цепочке красноватого золота. – Однако, вижу, ошибся. Я бы предпочел… – И не договорил.
– У тебя ко мне дело? – Марк Константинович всё разглядывал прежнего товарища. – Ты хочешь говорить с глазу на глаз? Извини, но это…
Он выпучил глаза, зажал ладонью рот, однако все же не сумел удержать приступа. Долго, с полминуты, содрогался в кашле и потом быстро скомкал, убрал платок. Все смотрели с одинаковым страдающим выражением, в том числе и Примус. Нет, не все. Татьяна Ипатьевна не отвела ненавидящего взгляда от лица незваного гостя.
Вдруг Зинаида Алексеевна тронула ее за кисть.
– Танечка, хотела с вами пошептаться по одному женскому поводу. Оставим мужчин на время.
Антон догадался: это она нарочно, чтоб не вышло какой-нибудь сцены. Прелесть что за женщина!
Татьяна Ипатьевна медленно поднялась и с видимой неохотой последовала за Бердышевой. Они сели на диван у дальней стены. Римма Витальевна несколько раз повела острым носом – от стола к дивану и обратно. «Столкнулись две идеологические концепции – право на участие в мужских дискуссиях и женская солидарность», – мысленно сыронизировал Антон. Победила солидарность. Знаменская тоже перебралась к дивану, но села на стул, чтоб быть поближе к столу и не упустить ничего интересного.
У Антона не было сомнений, кого тут нужно слушать. Он стоял, прислонившись к дверному косяку. Ждал, что последует дальше.
Но мужчины пока молчали, а голосок Зинаиды Алексеевны уже журчал. Антон услышал свое имя, навострил уши.
– …сколько продлится эта ужасная война. Вы решили что-нибудь относительно Антона? Ведь ему меньше чем через год будет двадцать.
Татьяна Ипатьевна молча покачала головой.
– Наш Виктор родителей не спрашивал, – сказала Римма Витальевна с горечью, но в то же время и горделиво. – Я с таким страхом жду выпуска. Теперь, вы знаете, срок обучения юнкеров сокращен. Вот вы, Зиночка, поступили умно, что родили девочку.
У мужчин тоже завязался разговор. Настороженно-нейтральный – о войне. Желания уединиться с хозяином генерал не выказывал. Зачем он явился туда, где ему не рады, было по-прежнему неясно. Но и молчание становилось слишком тягостным.
– Теперь дела пойдут лучше, – начал Аркадий Львович своим чудесным, звучным баритоном, от которого, бывало, млели присяжные, а теперь стихала болтовня думских заднескамеечников. – Телеграфные агентства только что сообщили: Северо-Американские штаты разорвали отношения с Германией. Скоро у нас появится новый мощный союзник.
– Много
Страница 13
они навоюют, американцы, – пожал плечами Бердышев. – У них и армии настоящей нет.– Самая передовая экономика мира! – Знаменский поднял палец. – Нам их солдат не надо, своих хватает. Но снаряды, аэропланы, башмаки, шинели. Консервы, в конце концов! Уж тебе ль, Петр, не знать? Ты у себя в комитете чем ведаешь?
– Военно-полевой телефонией. Аппараты, провода, коммутаторы. Со связью у нас хуже всего. Не позаботились вовремя те, кому по долгу службы полагается.
Эти слова сопровождались красноречивым взглядом на тайного советника, хотя тот никак не мог иметь отношения к проводам и коммутаторам.
– Американцы нам через Аляску доставят всё, что нужно. Тебе останется лишь выполнять роль диспетчера. А во-вторых, и это еще отрадней, мы избавились от Распутина. Грубейшая ошибка властей, – теперь уже Знаменский покосился на генерала, – что они не желают откреститься от этой позорной фигуры.
– Да, без Гришки воздух стал чище, – согласился Бердышев. – Нашлись решительные люди, не вконец еще оскудела русская земля.
Убийство Распутина в России обсуждали уже целый месяц, и ни разу Антону не приходилось слышать, чтоб хоть кто-то пожалел о темном старце.
Тем удивительней было услышать то, что сказал Ознобишин.
– Чему радуетесь, блюстители чистоты? – Кустистые брови сдвинулись. – Я по роду своей деятельности участвовал в расследовании. Гадкая история, гнусная. Привилегированные господа, кому следовало бы показывать пример достойного поведения, коварно заманили доверчивого человека в дом, обманули лаской, подсыпали в угощение отраву. Потом били гирей по голове, стреляли в раненого, запихивали под лед. Неужто вы вправду рассчитываете, что на таком подлом фундаменте воздвигнется нечто прекрасное? Роль общества в распутинской истории отвратительна. Из сугубо личного дела царской семьи раздули черт знает что, напридумывали мерзких сплетен, сами в них уверовали – и закончили вероломным убийством. А старец всего лишь умел останавливать кровотечение у наследника и успокаивать душевные муки бедной матери…
– А также свергать министерства, комиссионерствовать по военным поставкам и продавать военные секреты немецким шпионам, – подхватил Петр Кириллович.
– Неправда! – Ознобишин сверкнул глазами. – Ничего подобного следствие не выявило!
И после короткой паузы, много тише:
– Зато оно открыло другие обстоятельства, крайне интересные.
И пристально, как-то по-особенному посмотрел на Бердышева. Тот неприятно рассмеялся.
– Марк Константинович человек деликатный. Я – нет. Поэтому спрашиваю в лоб: зачем пожаловали? Вы здесь лишний.
Федор Кондратьевич Ознобишин не выглядел ни уязвленным, ни рассерженным. Он был готов к этому вопросу.
– Об этом я скажу, когда закончится сбор гостей. У вас ведь принято 27 января собираться в память о… знаменательном событии?
– Больше никто не придет. Сбор отменен по причине…
Марк Константинович поколебался немного, но причину объяснять не стал. Ему было трудно дышать, говорил он совсем тихо.
– Жаль, – сказал Ознобишин. – А впрочем, неважно. Главное, что ты здесь. Давно хотел объясниться. Именно с тобой. С остальными тоже, но в первую очередь с тобой. И вот набрался духа. Прошу меня выслушать, не перебивая. А потом говорите, что хотите.
– Говори. Слушаем.
В комнате стало тихо. Татьяна Ипатьевна жестом остановила Бердышеву на полуслове, и женщины тоже повернули головы.
От сдвинутых бровей на лбу Федора Кондратьевича проступили две глубокие вертикальные морщины. Он начал напористо и горячо. Смотрел только на хозяина, сердито и, пожалуй, обиженно.
– Марк, как ты мог уехать, не выслушав меня? После стольких лет дружбы? Ты даже не дал мне возможности объясниться!
– Он не уехал. Его выслали в двадцать четыре часа. С жандармом, – звенящим голосом ответила за мужа Татьяна Ипатьевна.
– Но я писал тебе! Ты ни разу не откликнулся!
И снова Татьяна Ипатьевна:
– Я выкидывала письма. Не вскрывая.
К ней Ознобишин так и не обернулся, он всё не сводил глаз с печально слушавшего Марка Константиновича.
– Тебе, Марк, должно быть стыдно. Остальные – пускай. Но ты-то знал, что я не подлец и не карьерист.
– Кто же вы, ваше превосходительство? – спросил Бердышев насмешливо.
Вот на него тайный советник поглядел – коротко, но цепко. Однако ответом не удостоил.
– В тот день, в профессорской, я вдруг очень ясно понял то, что чувствовал уже давно. – Федор Кондратьевич снял очки, близоруко прищурился, от этого лицо его вдруг сделалось беззащитным. – На меня, Марк, словно сошло озарение. Я увидел происходящее в истинном свете…
Дззз-дззз-дззз – тремя краткими требовательными звонками брякнула прихожая. И опять: дззз-дззз-дззз.
– А говорил, никто не придет.
Примус водрузил очки обратно, будто опустил забрало.
– Пойди, Антон, открой. Наверное, это Паша. Руки заняты, потому и звонит.
– Носом что ли? – проворчал Антон, которому очень не хотелось покидать гостиную в такой драматичный момент.
Но пошел, конечно. В комнате, правда, молчали – звонок
Страница 14
сбил говорившего с мысли или, может быть, с настроения.Нет, не Паша.
Еще один незнакомый. И тоже чудной, только в совсем ином роде. В простецком ватном картузе, кожаной куртке, высоких сапогах. Улыбчивый.
– Имени вашего, юноша, не знаю, но отчество угадываю: Маркович.
Лицо широкое, малоподвижное, несмотря на улыбку. И какое-то не по-питерски загорелое. Или обветренное? Со странностью лицо. Вроде бы глазу и зацепиться не за что – нос небольшой, усов-бороды нет и вообще ничего примечательного, – но почему-то хотелось вглядеться в эти черты получше. Что-то в них угадывалось. Неочевидное, но интересное.
– А впрочем вспомнил: ты Антон. Я был у вас как-то, в девятьсот шестом, что ли. Ты по полу с жестяным паровозом ползал. Войти позволишь?
На «ты» он перешел очень естественно, руку пожал твердо, ладонь с улицы холодная.
– Вы из папиных студентов?
– Точно. Панкрат Рогачов. Всё собираются наши-то?
Вошедший кивнул в сторону гостиной, где опять звучал глуховатый, издалека невнятный голос Примуса.
– Да. Пришли, несколько человек… А отчество ваше как?
– Отчество у меня дурацкое – Евтихьевич. Семейка купеческая, старообрядская. Но это, брат, ерунда. Скоро отчеств не будет.
И подмигнул. Под курткой на нем был свитер, какие носят чухонские рыбаки. С пикника он, что ли? Но какие зимой пикники?
– Как это не будет?
– А на кой они? Отменим к черту вместе с ятями, превосходительствами и прочей чепухой.
Любопытный субъект. Антон даже перестал оглядываться на гостиную.
– Кто это «мы»?
– Мы с тобой.
Рогачов прислушался. Донесся обрывок фразы: «…а ты своим поведением только подливал масла в огонь».
– Ругаются, – улыбнулся непонятный гость и потер озябшие руки. – Я ведь случайно. Проходил мимо, знакомый адрес, окна светятся, ну и вспомнил про двадцать седьмое. Занятно будет на знакомых поглядеть, после стольких-то лет. Веди, что ли. Да не топай, мы тихонечко.
Он, в самом деле, прошел коридором удивительно тихо, и грубые сапоги почти не скрипели. Но отец все равно заметил выплывшую из коридорного полумрака фигуру. Наклонился из кресла, узнал.
– Панкрат! Не может быть! Как хорошо, что вы пришли.
Знаменский, Бах и Бердышев поднялись, тоже удивленные и обрадованные. Со всеми тремя запоздавший гость был на «ты», а с Иннокентием Ивановичем даже обнялся. С дамами поздоровался общим, преувеличенно галантным поклоном. Но глядел при этом на важного генерала с петлицами министерства внутренних дел – вопросительно. И вдруг удивил.
– Панкрат… Михайлов. – Быстрый взгляд на старых товарищей, которые переглянулись, однако ничего не сказали. – А вы, простите…?
– Моя фамилия Ознобишин. – Тайный советник рассматривал странно одетого человека с недоумением. – Михайлов, вы сказали? Но в деле девяносто седьмого года студента Михайлова не было.
Услышав, кто перед ним, лже-Михайлов будто подобрался. Стоявший позади Антон заметил, как на шее Панкрата вздулась жила.
– Я из Технологического. Марк Константинович читал у нас лекции по правонарушениям на производстве.
– А-а… – Федор Кондратьевич утратил к новому гостю интерес. – Полагаю, что история с отдачей в солдаты вам тем не менее известна. И памятна. О ней-то мы сейчас и говорим.
Ему не терпелось вернуться к прерванному разговору.
– Грубейшая ошибка – заискивать перед молодежью, когда она закусила удила! – горячо продолжил он, едва Рогачов-Михайлов сел. – Вы, либералы, умиляясь их щенячьему тявканью, оказывали им дурную услугу! Ведь вы, господа, – обернулся он к бывшим студентам, – сами не учились и другим не давали. Бойкотировали почтенных профессоров, устраивали обструкцию. А ради чего? Вам казалось, что из-за идеалов, а на самом деле вам просто хотелось пошуметь. И я вдруг явственно увидел, что будет дальше. Бездумно, без мысли о будущем, слушая лишь пульс своей молодой крови, вы превратите университет в очаг смуты. Эту искру следовало потушить в самом начале, пока из нее не разгорелся костер. Иначе будут баррикады, бомбы, бои с полицией и войсками. Кровь, много крови! Решение министра было верным и гуманным. Профилактическая мера – ради вашего блага, ради блага университета, ради блага общества! Нужно было изъять из среды студенчества самых необузданных и поместить их, то есть вас, в мир дисциплины и порядка, в гущу того самого народа, о котором вы печетесь! Чтобы охолонули, повзрослели, одумались. Ведь не в каторжные же работы вас отдали, не в ссылку отправили!
– Армейская неволя хуже всякой ссылки, – не выдержал Аркадий Львович.
– Это чем же, позвольте спросить? Чем ужасна почетная служба отечеству? Стало быть, парням из крестьян и мещан это хорошо и нормально, а для вас, народолюбов, хуже ссылки? Учиться вы не хотели, так нечего и занимать чужое место! Отсрочка от воинской повинности вам тоже ни к чему. Знаете, я потом проследил за судьбой каждого, кто действительно попал в солдаты, а не спасся медицинской справкой, как вы, господин Знаменский. Ни один из них – слышите вы, ни один – после службы революцион
Страница 15
ром не сделался. Все образумились, все стали полезными и ответственными членами общества. Взять хоть господина Бердышева, одного из столпов отечественной промышленности. – Ознобишин опять, уже не в первый раз, поглядел на Петра Кирилловича особенным образом. – Вас ведь революционером не назовешь? Вы, насколько мне известно, по противуположной части? О ваших политических взглядах мы как-нибудь, быть может, после поговорим, но уж от прекраснодушных-то мечтаний о народопоклонстве солдатская служба вас, я полагаю, излечила?На некий намек, недвусмысленно читавшийся в словах «насколько мне известно» и «после поговорим», Бердышев только усмехнулся. А генерал повел свою речь, наверняка давно заготовленную, дальше:
– А теперь про мое выступление, которое вызвало такую бурю и превратило меня в объект всеобщей ненависти. Ты что же думаешь, я промолчать не мог, как большинство преподавателей? Не мог, как они, придти потом к тебе втихомолку, чтобы выразить сочувствие герою? Отлично мог. И место бы сохранил, и общественное уважение не потерял. Нет, Марк, я знал, на что иду. На глумление, на свист, на улюлюканье. Однако встал и сказал, что думаю. Не страшась последствий. Говорил я вещи очевидные: что университет должен быть храмом науки, а не рассадником революции. Что студенты должны учиться. Что господам профессорам стыдно и греховно искать легкой популярности у юнцов. Дорогие коллеги усвоили лишь одно: я поддерживаю репрессию. А студенты, когда узнали о моем выступлении, устроили мне кошачий концерт. Вести занятия стало невозможно. Мне пришлось уйти из университета – в никуда, на улицу. Но горше всего было, что ты, мой друг, отказался меня выслушать… Что ж, пускай с двадцатилетним опозданием, но я высказал тебе и им, – Федор Кондратьевич кивнул на остальных, – то, что хотел. И попробуйте сказать, что я был неправ, – после баррикад девятьсот пятого, после волны террора, после губительного раскола, разделившего лучшую часть общества надвое. Это случилось из-за того, что двадцать лет назад вы подвергли остракизму таких людей, как я. Людей, выступавших на стороне Разума.
Он горько покачал головой.
– Это всё. Если желаете мне что-то сказать, господа, теперь ваш черед.
Бердышев пожал плечами, ироническая усмешка все так же кривила его губы. Иннокентий Иванович выглядел взволнованным, всё теребил и без того перекосившийся галстук, но тоже молчал. Панкрат, поймав взгляд Антона, подмигнул.
Однако Аркадий Львович речь политического оппонента без ответа оставить не мог.
– Стало быть, сударь, вы считаете себя тоже в некотором роде политической жертвой случившегося? – язвительно осведомился он. – Однако вы ведь в проигрыше не остались. Сколько мне известно, в признательность за похвальные взгляды вас пригласили на хорошую должность в министерство.
– Это случилось позже и стало для меня неожиданностью. Марк, ты мне веришь?
Клобуков кивнул. Бывшего товарища он слушал очень внимательно, исхудавшее лицо больного было печально.
– Спасибо и на том… – Ознобишин прочистил горло. – Я не хочу, чтобы ты считал меня подлецом. Я не сомневаюсь, что был тогда прав, я уверен в своей правоте, но ты… твое отношение мучило меня все эти годы.
– Федя, я не считаю тебя подлецом, – тихо сказал Марк Константинович. – И я рад, что ты сегодня пришел.
И хоть Знаменский с Бердышевым сердито переглянулись, хоть Татьяна Ипатьевна тряхнула головой, а Римма Витальевна закатила глаза, но спорить с хозяином дома никто не стал. Сулившийся скандал с криками и хлопанием дверью – казалось, неминуемый после едкой реплики депутата – рокотнул да прошел стороной, будто отнесенная ветром грозовая туча.
– Блаженно слово миротворца, – с серьезной миной провозгласил Панкрат и вновь исподтишка подмигнул Антону.
– Танечка, Риммочка, какая я глупая! Я же принесла фотокарточки с нашей ёлки! Я вам покажу, как выросла Настенька! Петя, милый, принеси скорей мою сумочку! – зазвучал мелодичный голосок Зинаиды Алексеевны.
Минуту назад стол был словно поделен невидимой баррикадой: с одной стороны государство, олицетворенное человеком в мундире; с другой – гражданское общество, и схватка казалась неизбежной.
Но вот всё переменилось. Просто сидят мужчины, занимаются исконно русским делом – спорят о России.
Федор Кондратьевич как-то помягчел и выражением лица, и голосом, заговорил не наступательно да оборонительно, а скорей раздумчиво, но не менее убежденно.
– Я, господа, непримиримый враг революций. Ничего кроме беды от общественных бурь не жду. Я за постепенную мирную эволюцию. Вы, интеллигенция, тычете нас носом: нехороша-де самодержавная система власти, ломать надо. Согласен: система далека от совершенства, и мне изнутри это видно еще лучше, чем вам снаружи. А только ведь самодержавие на Руси не извне взялось, оно никем нам не навязано, само образовалось историческим образом. Ничего лучшего, стало быть, наша нация пока не заслужила. Вот он, итог ее естественного развития. И государственная власть, какая она ни есть, это единственная
Страница 16
защита нашей цивилизации против дикости и хаоса, против топора да красного петуха. А вы, господа гордые буревестники, уже сто лет под этот столп подкопы ведете, мечтаете его разрушить. Но если вам это удастся, сами не обрадуетесь. Ваша беда в том, что вы судите о России по себе, принимаете желаемое за действительное, всё прекраснодушничаете да собою же и любуетесь. А правда в том, что душа нашей страны вовсе не прекрасна, а груба и жестока. Вас городовой-держиморда раздражает? Охранное отделение возмущает? А уберите-ка держиморду с улицы. Будет погром и грабеж. А упраздните-ка политический сыск. Забыли, как в девятьсот пятом году террористы бомбы кидали, а экспроприаторы с обывателей деньги на революции вытрясали? Ленина в новые робеспьеры желаете?– Это еще кто такой? – сделал круглые глаза Панкрат. – Робеспьера-то я, естественно, знаю…
– Ленин – эмигрантский вождь, который желает поражения России, диктатуры пролетариата и мировой революции, – объяснил Ознобишин далекому от политики человеку.
«А ведь он прав, – думал Антон. – Все будто с ума посходили, только и разговоров, что о грядущей революции, а какой она будет, никто толком не знает. Сколько было зверства даже в просвещенной Франции, а у нас, вероятно, пугачевщина получится? Но ведь и по-прежнему уже невозможно. Когда все вокруг недовольны и кроют власть последними словами, это ведь добром не кончится?»
– Ну, Лениным нас пугать не надо, – хмыкнул Аркадий Львович. – Кого может увлечь этот сектант? Горстку таких же, как он, параноиков? Большевики совершили политическое самоубийство, когда выступили с антипатриотической программой. Труп этой партии уже унесен волной истории.
– «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца», – продекламировал Панкрат – на него покосились, и он приложил ладонь к губам: молчу, молчу.
Знаменского, впрочем, сбить было трудно. Жестом профессионального оратора он откинул со лба черные волосы с ярко выделяющейся седой прядкой и заговорил тихим, но отлично поставленным голосом, будто рассуждая сам с собой.
– Вот именно. В этом соль: самодержавие – анахронизм, а в истории всё ставшее анахронизмом превращается в зло. Мы – единственная из великих держав, цепляющаяся за эту архаическую форму правления, которая неспособна справиться с задачами современности. Кризис идеи абсолютизма еще явственней из-за того, что наш царь не ужасен. Это такой среднеуровневый Романов: не Петр Великий, но и не Павел Безумный. Человек незлой, неглупый, без особенных пороков, трудолюбивый, спартанец в быту, а всё равно – система не работает. Наша держава и в мирное-то время не выдерживала конкуренции с быстро развивающимися индустриальными державами, а уж в военную годину власть оказалась вовсе негодна к управлению огромной, сложной страной.
Антону казалось, что Аркадий Львович очень точно излагает те самые мысли, которые сам он окончательно сформулировать не мог. И, главное, так спокойно, так весомо – не поспоришь.
– Вы изволили нас иронически обозвать «гордыми буревестниками» и разрушителями, а ведь это неправда.
– В чем же тогда суть программы думской оппозиции, если не в разрушении существующего порядка? – воскликнул генерал, воспользовавшись маленькой паузой, которую сделал оратор. – И кто кроме глупцов или изменников станет разваливать государственную машину, все силы которой уходят на бой с внешним врагом?
Второй вопрос как явно риторический Аркадий Львович проигнорировал.
– Суть нашей программы – самая что ни на есть глубинная – в том, чтобы создать государство, которое будет пробуждать в человеке лучшее, а не худшее: самостоятельность, ответственность, разумность. Мы, либералы в самом широком понятии, верим в Человека, а вы, державники, – нет, не верите. Именно в этом наше коренное различие. Но в этом давнем историческом споре вы так или иначе обанкротились. Ваша власть падет неизбежно. Вы ее уже упустили. Вы несетесь по рытвинам, очертя голову, потеряв узду и стремена! С минуты на минуту ваш безумный галоп закончится падением! И себе шею свернете, и лошади-России хребет переломите!
Ах, как замечательно говорил Аркадий Львович! Недаром в довоенные времена на его выступления в суде ходили, как на спектакль, заранее посылая прислугу занимать места. Начав плавно, минорно, Знаменский сам, подобно разогнавшемуся всаднику, набрал скорость и аллюр – идеальную, похожую на полет стрелы иноходь.
– Не доводите же до этого, господа правители! Это вы тащите Россию к революции – не мы! Вы растеряны, вы не знаете, как управлять. Вы не можете управлять. Так отойдите в сторону, не мешайте! Мы – знаем, мы – можем. Притом ведь мы не самозванцы и не распутинские назначенцы. Мы – народные избранники! У вас еще остается шанс передать власть лучшим людям России, честным, знающим, целеустремленным. Всего-то и требуется, что учредить ответственное министерство. Чтобы за ход войны отвечала Дума, а не монарх. Нужно вывести царя из-под удара, ибо ныне он превратился во всероссийского козла отпущения. А как могло быть иначе? Николай
Страница 17
главнокомандующий армией, которая терпит поражение за поражением. Царица управляет тылом, в котором творится безобразие. Вы хотите спасти династию? Так отберите у нее рычаги управления. Пусть император с императрицей знаменуют собой единство нации, перерезают ленточки, ухаживают за ранеными, показывают образец семейной жизни. Распутина, слава Богу, больше нет, можно потихоньку заняться восстановлением подорванного престижа. В правительство мы посадим не лакеев, вся заслуга которых в личной преданности царице, а людей государственного ума, пользующихся народным доверием. Общество этих людей знает, они все на виду. И тогда обойдется без гильотин, без «аристократов-на-фонарь», без помянутых вами красного петуха и топора. Мы договоримся со всеми, кто согласен договариваться. Мы создадим широчайшую коалицию, необходимую в условиях войны. На период переустройства внутригосударственной жизни придется перейти к обороне. Ничего, Россия уже внесла более чем щедрую лепту в общее дело. Мы призовем Европу остановить ужасную бойню. Пусть свет и разум воссияют с Востока! А коли враг не внемлет нашему зову, мы превратим войну в истинно отечественную, заручившись пониманием и поддержкой всего народа. Перед этой силой ничто не устоит!Здесь Бердышев сделал нетерпеливое движение, кажется, желая возразить, но оратор не позволил – его речь приближалась к кульминации. Остановив Петра Кирилловича взмахом ладони, Знаменский обрушил на Ознобишина последний залп:
– Но уж если вы по упрямству и безголовости доведете Россию до революции, вся историческая ответственность ляжет на вас! Время уходит, скакун несется всё стремительней, а вы бьете по рукам тех, кто пытается схватить его под уздцы! Мы, интеллигенция, конечно, попробуем спасти Россию и при революции, но задача наша станет во сто крат трудней, когда рухнет государственная машина. В условиях тяжелейшей войны это может привести к поражению с необратимыми последствиями – вплоть до гражданской междоусобицы. И тогда Россия повернет не к свету, а во тьму, и в человеке пробудятся не лучшие качества, но худшие… Я, надеюсь, ответил на вопрос о нашей программе?
Это был классический прием Знаменского: поднять градус речи до высокого эмоционального накала, а потом завершить выступление на спокойной, рассудительной ноте, обезоруживающей оппонента.
На Ознобишина это, кажется, подействовало. Он выслушал депутата, сдвинув брови и глядя на скатерть, а финальный вопрос оставил без ответа. То ли нечего было возразить, то ли не желал ввязываться в бесплодную полемику.
Но не смолчал Бердышев.
– Я с тобой, Аркадий, категорически не согласен. К какому миру собираешься ты призывать страну, которая пожертвовала жизнью и здоровьем миллионов своих сыновей? Что ж, все эти жертвы, по-твоему, были напрасны? Списать, забыть? – Петр Кириллович с трудом сдерживался. Зинаида Алексеевна обернулась на мужа и нежно ему улыбнулась. Бердышев кивнул ей: всё, мол, в порядке, не беспокойся. – Нет уж, господа либералы. Кровь, горе и слезы будут хоть как-то оправданы лишь в том случае, если в результате войны Россия скинет с шеи удавку турецких проливов, которая душит нашу торговлю и не дает стране нормально развиваться. Нечего прекраснодушничать. Мир жесток, в нем побеждает тот, кто сильнее и жизнеспособней. Этим природным законом руководствуются все ведущие державы планеты. Было бы идиотизмом и преступлением вести себя иначе!
– И с такими взглядами вы являетесь противником существующей власти? – спросил Федор Кондратьевич, с любопытством рассматривая промышленника.
– Да! И еще более непримиримым, чем господа прогрессисты, – кивнул Бердышев на Знаменского. – Только я вашу власть обвиняю не в жесткости, а совсем наоборот – в мягкотелости. Некрепко узду держали, потому всё и профукали. Вы, милостивый государь, давеча верно сказали, что мне солдатчина на пользу пошла. Она мне мозги прочистила. Нет никакого равенства. Братство есть, а равенства нет! Но у братьев младшие слушаются старших, беспрекословно. Стране после японского позора нужна была жесткая диктатура, и Бог послал вам Столыпина, сильного человека, а вы его, как Христа, предали и отдали на распятие. Правили вы зигзагами, непоследовательно. И полюбить себя не заставили, и напугать не напугали. Из-за этого в небывало страшную войну мы вошли расхлябанными, неготовыми. Кто в этом виноват? Вы и ваш самодержец, слабый человек! Слабый – уйди. Как чувствительно вы тут про царицу и Распутина излагали! А я так скажу: если правитель не может поставить долг выше личного, пусть отрекается от престола! России нужна твердость. Дисциплина. Страх, в конце концов! Дезертиров расстреливать безжалостно. Забастовки запретить – по законам военного времени. Сопротивляющихся – карать. Вплоть до смертной казни.
– Вот это правильно, – поддакнул Рогачов. – Пусть сволочь пролетарская знает свое место.
– Рабочие не сволочь! – Петр Кириллович, не выдержав, сорвался на крик. – Не передергивай, Панкрат! Я этого не говорил! Сволочь те, кто морочит рабочим голову д
Страница 18
магогическими лозунгами. И вот этих надо травить, как тифозных вшей!Жена Аркадия Львовича, давно уже смотревшая не на соседок, а в сторону стола, воскликнула:
– Люди не вши! А тот, кто призывает карать ближних смертной казнью, нарушает Христовы заповеди! Россию можно завоевать только любовью!
Бердышев уже взял себя в руки, потух.
– Я не христианин, – пробурчал он. – Для меня ближние – те, кого я знаю и люблю, а все прочие – дальние. И Россию вашу я не люблю, потому что любить ее пока не за что. Мутная страна, бестолковая, неграмотная и не желающая ничему учиться. А впрочем…
Махнул рукой, не договорил.
Но Антон отлично понял, что хотел сказать Петр Кириллович, в отличие от Знаменского не заботящийся, понравится он слушателям или нет. «Не люблю Россию, ибо не за что»! Как просто и как смело сказано! А в самом деле, за что любить страну, которая никого, в том числе самое себя, не любит? Выйди-ка в любое место, где толпится простой люд, посмотри на них, послушай, понюхай – и спроси себя: «Любишь ты этих грязных, сквернословящих, пахучих, нетрезвых?» Да ответь честно. А они ведь и есть Россия. Но… ведь это, наверное, неправильно – не любить свою родину?
Заговорил Марк Константинович, и сразу стало очень тихо.
– Петр, проблема России не в косности, нежелании учиться или, как вы выразились, бестолковости. Просто население нашей страны пока находится в детском состоянии. В совсем детском, когда ребенок еще не знает грамоты, в лучшем случае умеет читать по складам. Да, наш народ – ребенок. Дети эгоистичны, невоспитанны, нечистоплотны, иногда жестоки, а главное не способны предвидеть последствия своих поступков. Их легко научить и хорошему, и скверному. А тебе, Примус, я хочу сказать вот что… – Он поднес к губам платок, на лбу вздулась жила. В горле зарокотало, но обошлось без приступа. – Историческая вина правящего сословия заключается в том, что оно плохо развивало и образовывало народ, всячески препятствовало его взрослению. Притом из вполне эгоистических интересов. Ведь дети послушнее, ими легче управлять. Можно не объяснять, а просто прикрикнуть, не переубеждать, а посечь розгами, можно не слушать их требований, высказанных косноязычным детским лепетом. Вот чем объясняется, в частности, гнусный запрет министра Толстого принимать в гимназию «кухаркиных детей». И позорное для европейской страны отсутствие всеобщего обязательного образования. Кто спорит – с подростком дело иметь труднее, чем с ребенком, а с юношей трудней, чем с подростком. Но не пройдя через эти естественные стадии роста, народ не станет взрослым. Реакционеры желали вечно сохранять низший класс в младенческом состоянии, держать замотанным в тугие пеленки. И у них это долго получалось. Но великовато дитятко, силы у него много, пеленками не удержишь. И когда русский великан с мозгами восьмилетка распрямится во весь свой гигантский рост, произойдет катастрофа – а виноваты будете вы, взрослые, образованные, наделенные властью и не справившиеся с нею.
– Золотые слова! – воскликнул Аркадий Львович. – Я рад, учитель, что вы со мною согласны!
Но Марк Константинович качнул бородой:
– Демократы – это другая крайность. Вы хотите народу-ребенку разом предоставить права взрослого человека. Ничего хорошего из этого не получится. Не может существо с неразвитым умом, не ходившее даже в начальную школу, само решать свою судьбу.
– От вас ли я такое слышу? – горестно вскричала Римма Витальевна. – Неужто вы противник демократии и народовластия?
– Не противник, нет. Но я думаю, что время политики для России еще не настало…
Сам поняв, что выразился неудачно, неясно, Марк Константинович запнулся. Все смотрели на него с напряжением: раскашляется или продолжит?
– Я хочу сказать, что наша миссия, миссия интеллигенции, на данном этапе – не призывать народ к гражданственности, ибо всё равно не поймут или поймут неправильно… Надобно быть педагогами и воспитателями. Не столько даже словесно, сколько давая образец нравственного поведения и честной работы, личного достоинства, бескорыстия. Не urbi et orbi, а тем, кто находится непосредственно вокруг тебя.
– Теория малых дел? – протянул Аркадий Львович. – Слыхали, слыхали.
Антон тоже был разочарован. Он ждал от отца более яркого и значительного мнения, которое перевесит все остальные. Потеряв место на кафедре, Марк Константинович больше не возвращался в науку. Двадцать лет, лучшие годы жизни, он тянул лямку поверенного по уголовным делам, берясь только за безгонорарные, по назначению суда, то есть защищая самых неимущих, самых бесправных. Но Антон всегда думал, что главные свершения отца впереди, что вся эта общественно полезная, но мелкая, такая мелкая деятельность – не более чем подготовка к чему-то крупному, историческому. А оказывается, это и было то самое Дело, которому Марк Клобуков отдал ум и сердце, всю свою жизнь?
– Когда многие делают малые дела, вместе получается большое, – всё так же тихо сказал отец. – Беда в том, что нас для такой огромной страны недостаточно. К
Страница 19
к у Чехова – три сестры на целый город. Требуется много лет кропотливой, неустанной работы. Даст ли России история столько времени? Сомневаюсь. А как иначе – не знаю. – И закончил уже почти совсем шепотом, сконфуженно. – Но это уже…Последнюю коротенькую фразу он прошелестел одними губами. Антон ее не расслышал – угадал. И понял. Отец хотел сказать: «Но это уже меня не коснется».
Глаза заволокло. Чтоб не расплакаться при всех, Антон попятился в коридор и там, невидимый остальным, стряхнул слезы.
Нет, нет, неправда!
В гостиной звучал тонкий голос обычно молчаливого Иннокентия Ивановича. Он говорил взволнованно, но уж совсем не в лад. Судя по скрипу стульев и возобновившейся женской беседе, публициста-богослова не очень-то слушали.
– Грядет испытание, которое ниспосылает человечеству Господь, – торопился сказать наболевшее Бах, – испытание тяжкое, но необходимое. И какое сообщество людей – будь то страна или сословие – больше нагрешило, тем экзамен строже. Вот мы жалуемся на тяготы войны, а я знаю, что главные злосчастья еще впереди. Ужасные напасти ждут и нашу многогрешную Россию, и каждого, каждого. Не останется ни единой семьи, ни единой души, которая минует это горнило, и многие погибнут, а другие, и их будет еще больше, выживут телом, но погибнут душой, и это ужасно, ужасно, но без этого нельзя, потому что жизнь – это выбор между Добром и Злом, каждодневный, каждочасный, и он нелегок, ох как нелегок, но без выбора не будет очищения… – Иннокентий Иванович так расчувствовался, что даже всхлипнул. – И поэтому я не ропщу, я принимаю и понимаю. Но даже когда не понимаю, тоже не ропщу, потому что мой земной разум ограничен, и нужно верить, нужно верить! Слышите? Только этим и спасемся. Когда сильные бессильны, а рассудочные безрассудны, остается одна лишь Вера. Ах, что я говорю – «одна лишь», будто этого мало? Много, очень много! Вера – единственное, что не подведет, не предаст и не сломается в любых испытаниях.
При всей маловнятности и даже бессвязности этой проповеди, произнесенной не к месту и не ко времени, на Антона она подействовала. Не своим смыслом (что никакого Бога нет, Антон знал), а искренностью и страстью. «Вот так, наверное, говорил и князь Мышкин, взывая к равнодушным, насмешливым слушателям», – подумал он и тут же укорил себя: отец не из равнодушных, и мать, да и остальные.
– Слушай, Кеша, не наваливайся на меня так. У тебя, извини, изо рта пахнет, – сказал бесцеремонный Бердышев. – Сходи к дантисту. Я тебе телефон дам, скажешь, что от меня. Если у тебя туго с деньгами, я велю записать на мой счет. После сочтемся.
– Прости… Да-да, зубы ужасные, – забормотал Бах. – Я знаю, мне говорили…
– А что ж господин Михайлов всё отмалчивается? Тут у каждого есть свое мнение о России, так неужто у вас нет? Это было бы оригинально.
Вопрос задал Ознобишин.
Антон, уже шедший к себе, приостановился.
Ну-ка?
– Россия – девка с норовом, – коротко ответил Панкрат. – Коса длинна да ум короток. Ей крепкий мужик нужен, а таковых окрест что-то не видно.
Странный человек. Всё б ему отшучиваться.
Уединиться Антону захотелось, чтобы разобраться в мыслях. Слишком много идей после услышанного теснилось в голове. Кто прав, кто неправ? Что будет? Ведь только в одном все согласны: что-то непременно будет, что-то страшное и значительное. Скоро.
Он вошел к себе, прикрыл дверь, но о важном подумать не получилось. Поманил хромовым блеском и масляным запахом лежащий на столе фотоаппарат.
Несколько минут Антон возился с ним, заглядывая в англоязычную инструкцию. Наладил магниевую вспышку. Для пробы снял натюрморт: бронзовая чернильница, поделенная светом и тенью надвое тетрадь. Но натюрморт – скучно.
Попробовал сфотографировать себя в гардеробном зеркале. Получится? Нет, запечатлелась одна вспышка.
И здесь ему пришла в голову чудесная идея. Нужно сделать памятное фото родителей с гостями! Как это он сразу не сообразил?
Когда он снова вышел в коридор, стало ясно, что момент для съемки неподходящий.
– … Оставьте свои жандармские повадки для службы! – непримиримо чеканил Бердышев. – Вы всё время будто на что-то намекаете. На что? В чем вы меня подозреваете? Говорите прямо!
– Что это вы так, любезный Петр Кириллович, раскипятились, – холодно, врастяжку шелестел Ознобишин. – Мания преследования? Или замешаны в чем-нибудь предосудительном? Я всего лишь спросил, удалась ли ваша поездка в Тифлис.
– Не ваше дело! Если хозяин дома позволил вам остаться, это еще не значит, что мы…
– Петр, Примус! Молчите! Молчите оба! – И голос отца сорвался, раздался мучительный, неостановимый кашель.
Мать:
– Марк, выпей микстуру! Ах, не мешайте же!
Но приступ всё не кончался.
Войдя, Антон увидел: отец давится кашлем, мать одной рукой обнимает его за плечи, в другой – стакан, но больной не может выпить лекарство, лишь сжимает и разжимает пальцы откинутой руки. Мужчины стоят, Зинаида Алексеевна с Риммой Витальевной тоже вскочили, и лица у всех сострадательно-несчастные.
Вдру
Страница 20
Марк Константинович запрокинул голову, перестал кашлять, замычал, быстро зажал ладонью рот, и меж пальцев засочилась темная, почти черная кровь.– Папа! – вырвалось у Антона.
Такого сильного горлового кровотечения он еще ни разу не видел. Что делать? Что делать?
– Сплевывать, потом голову назад! – быстро сказал Панкрат. – Я такое видел. Сплевывать – и назад. Сейчас кончится.
И правда, через минуту кровь течь перестала.
Мать вытерла больному бороду, прикрыла забрызганную грудь пледом. Марк Константинович сконфуженно улыбался.
– Прошу простить за мелодраму. Мне совсем нельзя кричать. Ну что вы все на меня так смотрите? Ерунда, обычное дело для чахоточного субъекта. Такая у нас работа – перхать да кровью харкать.
– Господи… – Зинаида Алексеевна прижимала ладони к побледневшим щекам. – Вам нехорошо, вы еле держитесь, а они со своими чугунными разговорами. Еще бранятся! Стыдно, господа!
– Ты права. Это я виноват, – покаянно повесил голову Петр Кириллович.
– Нет-нет, Марк, никто не бранится. – Примус часто хлопал ресницами, что совсем не шло к его строгому, аскетичному лицу библейского первосвященника. – Обычная дискуссия.
– Ну и хорошо. Не нужно ссориться… сегодня. – Марк Константинович поглядел на сына и ободряюще подмигнул: всё в порядке, всё позади. – Что это у тебя, Антоша? Фотокамера? Откуда?
– Петр Кириллович подарил.
– Так, может быть, снимешь нас, на память?
– Прекрасная идея! – подхватила Бердышева. – Только дайте минутку…
Отошла к зеркалу, стала поправлять безупречно сидящий жакет, взбивать перламутровым гребешком и так пышные завитки волос.
Римма Витальевна руководила расстановкой стульев – так, чтобы больной мог остаться в своем кресле, а все расположились вокруг него.
– Плед долой, – велел Марк Константинович, расправил плечи, до самого горла застегнул куртку, чтоб не было видно испачканную сорочку.
Мужчины встали позади кресла, дамы сели – Татьяна Ипатьевна неохотно, она всё смотрела на супруга и хмурилась. Хотела, чтоб гости поскорее ушли, и не скрывала этого.
– Раз – два – три!
Одновременно со вспышкой Антон нажал кнопку затвора.
– Ну Панкрат Евтихьевич! Зачем вы повернули голову?! Придется магниевый порошок менять!
– Не образумлюсь, виноват. – Рогачов развел руками. – Мне же хуже. Дорогие гости, не пора ли нам восвояси? Дадим Марку Константиновичу покой.
И все сразу засобирались.
Хозяин дома не пытался их удерживать, просто смотрел с мягкой, печальной улыбкой и каждому поочередно кивал. Но вдруг случилось что-то с Татьяной Ипатьевной. Казалось, нетерпеливо ждала, когда больного наконец оставят в покое, а тут чего-то испугалась. Заметалась в коридоре, запричитала:
– Ах, что же вы? Еще рано! Побудьте еще!
Женщина она была большой выдержки, чувства проявляла скупо. Антон мать такой никогда не видел и сильно удивился.
Татьяна Ипатьевна уговаривала гостей до того молящим голосом, что те стали останавливаться. Но Клобуков тихо, твердо сказал:
– Нет-нет, Таня. Я устал. Пора.
И мать умолкла, будто обессилела.
Ее отвели в сторону женщины, зашептали что-то настоятельное.
– …Превосходный специалист, светило европейского масштаба, – гудела Римма Витальевна.
Зинаида Алексеевна, поглаживая хозяйку по плечу, предлагала ехать в Мисхор, где у них с Петром дача со всеми-всеми удобствами.
Слушала Татьяна Ипатьевна или нет, было непонятно. Она тускло глядела на обои: там плыли по волнам синие голландские кораблики и щекастый бог морей дул в раковину; на краю, близ дверного косяка, виднелись карандашные отметины – когда-то, по дням рождения, здесь измеряли, насколько Антон вырос за год.
– Да-да, спасибо. Мы подумаем про дачу… Конечно, запишите номер, – сказала она женщинам и внезапно направилась к Ознобишину, надевавшему свое форменное пальто.
– Как ваше здоровье? – спросила она громко.
Генерал удивился. Весь вечер хозяйка смотрела на него с нескрываемой враждебностью.
– Не жалуюсь.
– Рада за вас. Знаете, а ведь это из-за вас он умирает. У него с детства слабые легкие, а вы загнали его в Сибирь. Там он и заболел.
Стало очень тихо. Даже Антону было понятно, что обвинение несправедливо.
– Мама… – Он положил ей руку на плечо и почувствовал, что оно дрожит.
Ознобишин и возражать не стал, лишь тяжело вздохнул. Неловко поклонился, вышел первым.
Следом – остальные. Каждый на прощанье говорил Татьяне Ипатьевне что-то сердечное, но опять было не понять, слышит она или нет.
С Антоном же попрощался один Панкрат.
– Береги отца, парень, – сказал он на ухо. – Жалко будет, если помрет и не увидит, какие интересные дела начинаются. А сам живи, да не будь дураком. Гляди в оба, мотай на ус.
Последним уходил Бах, неохотно. Всё порывался остаться.
– Вы устали. Я посижу с Марком Константиновичем, а вы отдохните, вам обязательно нужно отдохнуть. Вы не беспокойтесь, я всё умею. Я же нарочно фельдшерские курсы… И укол, если понадобится. У меня рука легкая, все в госпитале говорят…
Но в конце концов Тать
Страница 21
на Ипатьевна выпроводила и его.– Только об одном молю. Не впадайте в отчаяние. Поверьте, всё имеет смысл, всякое страдание. Нужно быть стойкими… – пролепетал Иннокентий Иванович уже в закрывающуюся дверь.
– Иди спать, Антон. Поздно уже. Спокойной ночи, – ровным голосом произнесла мать, когда они остались вдвоем.
– Хорошо. Только с папой попрощаюсь.
– Не нужно. Он совсем выбился из сил.
Настаивать Антон не стал. Ему и самому хотелось поскорее уйти к себе. Слишком много впечатлений для одного вечера. И с фотоаппаратом еще до конца не разобрался.
* * *
На пустой улице ветер косо гнал мелкие снежинки – белым пунктиром по черно-синему. Свет фонаря бликовал на черных боках автомобилей. Их перед парадной скромного клобуковского дома стояло аж три: официальный «паккард», мощный «астон мартин» и демократичный «форд».
– Что ты застрял? – прикрикнул на Баха через поднятый каракулевый воротник Бердышев. – Тебе куда ехать? Извозчика сейчас не найдешь. Я на Васильевский. Если по пути, подвезу.
– Нет, – ответил Иннокентий Иванович, ежась в своем драпчике. – Я за Николаевским вокзалом живу.
– Ну тогда Аркадий тебя возьмет. Он и мою Зину домой забросит. Всё, помчался.
Петр Кириллович пожал руку супругам Знаменским, Баху, Рогачову и даже не взглянул на Ознобишина, который не спешил сесть в свой «паккард», хотя порученец держал перед ним дверцу открытой. Жену Бердышев поцеловал в щеку, что-то шепнул.
Быстро сел рядом с шофером.
– Поехали!
Рыкнув двигателем, «астон мартин» унесся в белую пыль.
– Благодарю, но мне домой еще рано, – сказал депутату Бах. – Мне тут… недалеко. Я ничего, я пешком пройду.
И, разом всем поклонившись, согнулся, засеменил по скрипучему от снега тротуару, тоже исчез.
– Вы сейчас куда? – спросил Панкрат у тайного советника, оглядываясь по сторонам.
– На Морскую, в министерство. Мы, слуги реакционного режима, работаем и по ночам.
Федор Кондратьевич смотрел вверх, на освещенные окна Клобуковых. Очки посверкивали, глаз было не видно.
– Отлично! Прихватите?
– Сделайте милость.
Знаменский удивился:
– Ты что, Панкрат? Зачем? Довезем, куда велишь. У меня Римма знаешь, как шоферит? Заодно расскажешь, как ты и что. Ведь тысячу лет не виделись.
– Нет-нет. Я с его превосходительством. Пока, увидимся.
Помахав рукой, Рогачов юркнул в «паккард», мимо секретаря, адъютанта, помощника – по шинели военного кроя, но без погон и фуражке с кокардой, но без околыша, было непонятно, что за птица сопровождает члена министерского совета. Пришлось служивому человеку обойти автомобиль и открыть начальнику дверцу с другой стороны.
Тем временем «форд» уже тронулся. Римма Витальевна с видимым удовольствием натянула кожаные перчатки с крагами, дунула в клаксон, лихо стартовала. Она была одной из первых женщин-шоферок Петрограда и очень этим гордилась.
Когда от парадной отъехало – самым последним – авто Ознобишина, оказалось, что ночная улица вовсе не безлюдна.
На противоположной стороне из подворотни высунулись двое: один в смушковом «пирожке», второй в заячьей ушанке.
– Видал? – сказал первый. – С тайным советником Ознобишиным укатил. Каково?
– Чё делать будем, дядя Володя?
Первый негромко свистнул, сложив пальцы кольцом. Из-за угла выкатила пролетка, у кучера на плечах и шапке насыпало горку снега.
– Есть приказ выяснить объекта «Веселый»? – крикнул «пирожок», вскакивая на подножку. – Есть. Значит, сполняй. Садись, Филька, не задерживай! Гони, Красиков. По снегу мы быстрей керосинки помчим, не Уйдет.
– А как же генерал?
– Видно будет…
Белые комья из-под копыт, фырканье застоявшихся рысаков. Растаяла в начинающейся метели и пролетка.
* * *
– Не понимаю Таню. Она всегда такая сильная, деятельная, а тут совершенно раскисла. – Римма Витальевна уверенно вела машину, объезжая снежные заносы. Когда навстречу, из-за угла Моховой, выехал грузовой «студебеккер», строго посигналила ему. – Нужно не сидеть сложа руки, а спасать его! Мы живем в двадцатом веке. Есть новые медикаменты, есть революционные методики. Завтра же возьму Таню в оборот.
Аркадий Львович хмуро глядел в окно, постукивал ногтем по стеклу.
– Не поможет. Марк Константинович умирает. Я знаю, мой дядя уходил так же. Остались считанные дни… Какая утрата. Я даже не про смерть говорю, все мы смертны. Я про жизнь, ушедшую на пустяки. А ведь какой человек! Чистый, свободно мыслящий, образец истинно русского альтруизма! Сын декабриста, благороднейший продукт естественной эволюции национального характера…
Он подумал: «Да-да, именно про это и написать в некрологе – про преемственность русской альтруистической традиции» – и смутился от неприличной мысли, замолчал.
– Что вы такое говорите! – ахнула Бердышева. – Его срочно нужно в Крым! Петроградская зима его убивает! Она и здорового человека может в могилу свести. У меня Настюша второй месяц в нескончаемой простуде. А в Мисхоре морской воздух, вдохнешь – и легкие сами расширяются. Риммочка, едемте к Клобуковым вмест
Страница 22
, прямо утром.– Решено, – кивнула Знаменская. – Я привезу профессора Штамма, а вы отправьте телеграмму прислуге в Крым. Кролик, ты достанешь бронь через думский секретариат? Нужно целое купе. Возможно, они захотят взять сына. Какой серьезный мальчик, совсем взрослый. Не то что наш Витя. – Она вздохнула и тряхнула головой, отгоняя вечную мысль об одном и том же: только бы война закончилась прежде, чем его выпустят, только бы он не попал на фронт. – Так что, встретимся в десять перед их домом?
– Давайте в половине двенадцатого. У меня с утра примерка. Риммочка, поверните лучше вот здесь, а то на Литейном разобрали трамвайные пути.
Зинаиду Алексеевну высадили перед особняком, мраморное крыльцо которого было освещено золотыми шарами. И сразу заговорили о важном. От жены у Знаменского секретов не было.
– Ты видела, как он на меня смотрел?
– Ознобишин? Нет, он же сидел ко мне спиной.
– Так и сверлил глазами. Знают, всё знают, – озабоченно теребил эспаньолку Аркадий Львович. – Просто боятся скандала. Не решаются нарушить депутатский статус.
– Пускай нарушат. Это лишь ускорит события. Долго в тюрьме ты не пробудешь. Может быть, получится даже лучше.
Супруги понимали друг друга с полуслова, не было нужды проговаривать всё до конца.
У Аркадия Львовича, занимавшего очень хорошую, стратегически выигрышную позицию «левого прогрессиста», посередине между кадетами и эсерами, имелся один существенный минус. Он никогда не сидел в тюрьме и даже не был в ссылке. Давняя студенческая история завершилась всего лишь временным отчислением из университета, а после Выборгского воззвания он проявил недальновидность – не вернулся с другими мятежными депутатами в Петербург, переждал грозу в Финляндии. Подумаешь, отсидел бы три месяца, ничего страшного, зато теперь мог бы рассчитывать на большее, чем пост товарища министра юстиции, и то еще под вопросом.
– Жаль, я не могу пойти на совещание с тобой, – сказала Римма Витальевна. – Всё-таки это гадость, что средь вас нет ни одной женщины!
Встреча членов будущего кабинета назначена на половину второго ночи, дома у Георгия Евгеньевича. Только посвященные, никого лишнего. Знаменский расскажет о поездке на фронт – о конфиденциальной беседе с великим князем. Она прошла не идеально, но и не провально. Михаил сделал вид, что не уловил сути осторожно сформулированного предложения, но на самом деле всё отлично уразумел. И не возмутился, не устроил сцены. Это важный этап – и для Дела, и для статуса Аркадия Львовича. Кроме того, сегодня должен окончательно определиться состав будущего ответственного кабинета…
– Я знаю, ты хочешь занять этот пост не из честолюбия, – сказала умная, всё понимающая жена. – Просто ты талантливее их всех и лучше вытянешь неподъемный воз.
– Уместней было бы сравнение с чисткой Авгиевых конюшен. – Он достал часы. – Еще рано. Правильно будет приехать с десятиминутным опозданием. Пусть немного подождут. Покатаемся? Люблю ночной Питер. Потом отвезешь меня и езжай домой. Раньше утра не вернусь.
* * *
Машину вел штабс-капитан Фелонов из отдела военно-технической экспертизы, верный человек, посвященный во все детали. На предстоящую встречу своего обычного шофера, тоже надежного, но постороннего, Бердышев брать не стал.
– Не мог раньше, – коротко сказал Петр Кириллович. – Обстоятельства. Ничего, успеем.
По дороге с вокзала к дому Клобуковых у них с Фелоновым был серьезный разговор, оставшийся незаконченным. Штабс-капитан сообщил, что полиция арестовала Рабочую группу и произвела обыск на Литейном, где располагался Центральный военно-промышленный комитет. Особенно полиция интересовалась командировкой завсекцией средств связи Бердышева. Только и успели обсудить одну эту тревожную новость, на остальное не хватило времени.
Повернув за угол, Фелонов кашлянул, погладил перчаткой английские усики. Он, как и пассажир, был человек сдержанный.
– Хм. Правильно ли я разглядел? Это был Ознобишин?
– Он.
Штабс-капитан покосился на Петра Кирилловича.
– Вряд ли это случайность.
– Именно что случайность. – Бердышев взял из портсигара с алмазной монограммой папиросу, другую протянул водителю. С презрением пожал плечами. – Ерунда. Тонкие намеки на толстые обстоятельства. Ни на что они уже не способны. Всё знают, а сделать ничего не могут, импотенты. И членов Рабочей группы выпустят – завтра, самое позднее послезавтра. Сразу после протестов в прессе.
Он не высказал всё, что хотел, у Клобуковых, потому что там были чужие. Со своим – иное дело.
– Мать их тра-та-там! – выругался Бердышев, что случалось только в минуту сильного раздражения. – Разве так надо страной управлять, в военное-то время? Железная воля нужна, решимость – за это всё простят! Россия любит погорлопанить про свободы, а на самом деле порядка хочет. Обыск они, видите ли, устроили. Кучку статистов арестовали. Ох, я бы на месте Николашки… – Он задохнулся от негодования, начал загибать пальцы. – Говорильню думскую прикрыть, это первое. Вожаков под домашний арест. В
Страница 23
столице ввести особое положение, комендантский час. Рабочих оборонных заводов – на казарменное. Если забуянят – еще лучше. Можно будет выявить и изъять вожаков, остальные сразу притихнут. Солдат из запасных батальонов – на фронт, без оружия, малыми группами. А вместо этой бесполезной и даже опасной оравы бездельников снять с фронта одну казачью дивизию, все равно сейчас зимнее затишье. Сразу в Петрограде порядок будет! Ну и с пекарнями, конечно, порядок навести. Что это, в самом деле: муки полно, а с хлебом перебои?Каждый раз, когда Бердышев загибал палец, капитан кивал. А Петр Кириллович простонал:
– Э-эх, ведь возможно пока еще бескровно решить. Или совсем малой кровью. Когда вся жизнь империи сосредоточена в столице, порядок навести – плевое дело. Но ни черта не сделают, кретины никчемные. Прошляпили и власть, и Россию…
– Что Никник? – осторожно спросил Фелонов про главное. Пока ехали с вокзала на Пантелеймоновскую, к Клобуковым, не решился. Всё ждал, не заговорит ли Бердышев сам.
Петр Кириллович скривился.
– Юлит. Тоже слаб. Если, говорит, Богу будет угодно и обстоятельства сложатся так, что страна меня призовет… Так-то орёл, а в политическом смысле трусоват. Тут ведь другая смелость требуется… Ладно, сейчас всё обсудим и решим. Вы жмите на газ… В сущности, он прав, – сказал Бердышев уже не капитану, а самому себе. – Страна детей. Сверху донизу инфантилизм и безответственность.
– Кто «он»? Кто прав?
– Неважно…
* * *
– Вы, господин Михайлов, стало быть, учились в Технологическом? – спросил Федор Кондратьевич, откидываясь на мягкую спинку. – Однако Марка Константиновича знаете?
– Лекции слушал. Очень уж хорошо Марк Константинович читал. – Панкрат зачем-то оглянулся, посмотрел через заднее стекло. – Но я недолго поучился.
– Вы, собственно, по какой линии… жительствуете?
Голос тайного советника был рассеян, на спутника Ознобишин не глядел. Зато лже-Михайлов покосился на генерала взглядом весьма сосредоточенным и ответил без обычной уклончивости и полунасмешки:
– Я, ваше превосходительство, в настоящее время живу в Москве, в Песчаных, а служу по чаеторговой части, экспедитором. Работа у меня – сплошные разъезды. Сейчас вот сопровождал груз из Кяхты. Это легко проверить.
Федор Кондратьевич устало засмеялся:
– Господь с вами. Делать мне больше нечего… Это вы филиппик господина Бердышева наслушались. Вы в какую сторону?
– Да уже приехал. Велите остановить сразу за углом, – сказал Панкрат, видя, что автомобиль поворачивает.
И вылез из машины очень быстро, а попрощался того быстрей.
– Благодарю, ваше превосходительство. Доброго здоровьица.
Добежал, сгибаясь под всё усиливающейся метелью, до чернеющей вблизи арки, и пропал.
«Паккард» поехал дальше.
– Николай Афанасьевич, – обратился тайный советник к секретарю, неподвижно сидевшему рядом с шофером. – Как доедем, позвоните-ка генералу Глобачеву. Он наверняка на месте. Ну, не он, так помощник… Пусть поднимут дело 1897 года об исключенных студентах и посмотрят, проходил ли там некто по имени Панкрат, фамилия неизвестна.
Скользкий тип, думал Ознобишин. Верно, тоже какой-нибудь заговорщик. Сейчас все заговорщики. И ничего с ними не сделаешь. Половину страны не арестуешь. Только и остается – приглядывать да припугивать, чтоб не зарывались. Не больно-то они нынче и припугиваются…
После возбуждения и облегчения (все-таки объяснился с Марком, скинул камень с души) вернулось всегдашнее состояние апатичной обреченности.
Эх, господа обличители, кабы вы знали, до какой степени скверны дела! Рыба гниет с головы, и у нашей чудо-юдо-рыбы-кит башка совсем протухла. Говоришь министру: «Александр Дмитриевич, нельзя вводить хлебные карточки! Слово „хлеб“ на Руси сакрально, будет тотальная паника». Смотрит снисходительно, толкует про германский опыт продовольственного нормирования. Как будто мы ста сорока миллионами законопослушных немцев управляем! Говоришь: «Александр Дмитриевич, нужно срочно выводить из города запасных. Ведь их сто шестьдесят тысяч, куда столько? Это пороховая мина. Того и смотри взорвется!» А он в ответ: «Знаю-знаю. Мистер Саттерлей, мой лондонский оккультист, предупреждает, что надобно опасаться 14 и 27 февраля, нехороших для меня дней. Но он же и подсказал средство, как уклониться от опасности». Ну что будешь делать с полоумным?
Правы краснобай Знаменский и зубастый волк Бердышев, тысячу раз правы. Уж себе-то можно признаться. Мы виновны, все виновны, включая и меня. Взялись за гуж и не вытянули, оказались недостаточно сильны, умны, дальновидны. Потому и рассыпаемся в прах – и не под внешними ударами, а изнутри, от собственной трухлявости.
Члены императорского дома, кому надлежит быть опорой престола, интригуют. Лучшая часть нации в оппозиции и плетет заговоры. Да, за государя стоит горой простой народ, крестьянство, но разве эта серая масса в России когда-нибудь что-то решала? А поддержка офицерства и генералитета, без которой удержаться невозможно, утрачена. Недовольны ходом войны
Страница 24
шипят. Случись завтра переворот, не защитят. А если заговор возглавит Николай Николаевич, вокруг которого плетут паутину Бердышев и компания, армия откликнется троекратным «ура». Если же раньше поспеют господа думцы и уломают Михаила, то возликуют обе столицы…Умом Федор Кондратьевич понимал, что так оно, возможно, было бы и лучше: дядю ли, брата – кого угодно, только другого, не этого, чье понурое лицо несет на себе печать поражения и неудачливости. Но сердце рвалось от щемящей жалости к венценосцу, чьи плечи согбены неподъемным грузом. К несчастной царице, ее материнскому горю, ее честной немецкой старательности полюбить и понять Россию.
Когда такой раздрай между умом и сердцем, надобно уходить в отставку. Но как уйдешь в такое время? Нельзя. Нужно пить горькую чашу до дна.
Секретарь неуверенно оглянулся.
– Федор Кондратьевич, может, все-таки домой прикажете? Ведь и прошлую ночь в кабинете, и позапрошлую. Извините, что позволяю себе, но у вас вид больной.
– Ночью самая работа, никто не мешает. В министерство, голубчик, в министерство.
Домой… Что домой? Всё равно не уснуть.
* * *
Потому что береженого бог бережет. Народная мудрость.
Ничего такого шибко подозрительного Панкрат, оглядываясь в генеральском «паккарде», не приметил: ночь, снежный хоровод, фонари. И не хватит у шпиков наглости следить за машиной такой шишки.
Как только морда в шапке-«пирожке» выглянула из подворотни близ клобуковского дома, Рогачов моментально срисовал слежку. Опыт.
Что, братцы филеры, съели?
И, главное, как это удачно вспомнилось про двадцать седьмое! Думал, совсем беда: обложили, не выпустят. Сразу не берут в надежде, что выведет на явку.
Вдруг – дом, знакомый. И окна горят. А потом и про годовщину вспомнилось. Шел на четвертый этаж, думал: хорошо бы там у какого-нибудь окна пожарная лестница оказалась, потому что черный ход они сразу перекроют. Но с тайным советником Ознобишиным – это капитально повезло.
Вбежав в темный двор, стиснутый меж домами, обычный питерский «колодец», Панкрат сначала убедился, что есть еще одна арка, проход, а потом уж оглянулся и немножко подождал. Рука лежала на холодной рифленой рукоятке. Стрелять в людей Рогачову не доводилось уже лет десять, но оторваться нужно было во что бы то ни стало. Если какой чересчур прыткий всё-таки приклеился, пусть пеняет на себя.
Вроде чисто.
Он побежал в арку, повернул за угол – и лицом к лицу столкнулся с парнем, тоже куда-то спешившим. Малый был одет по-рабочему, и возраста неподозрительного, лет двадцати. В наружке таких зеленых не держат. Но на всякий случай пистолет Рогачов всё-таки вынул.
– Дяденька, вы что?! – крикнул парень. – У меня грабить нечего!
Голос жалобный, а взгляд сощуренный. Не из трусливых. Поэтому «браунинг» Панкрат убирать не стал.
– Ты что среди ночи шляешься?
– У марухи был…
– «У марухи». Блатной, что ли?
– Не-е.
А двор-то, черт бы его драл, кажется, тупиковый.
– Отсюда на канал пройти можно? Ты здешний?
Малый помотал башкой. Опущенные уши заячьей шапки тоже помотались туда-сюда.
– Не-е. Тут Клавка моя живет. А пройти можно, через вон ту дверь, она незаперта. Потом направо мимо дровянки, потом через забор…
– Тебя как звать?
– …Филиппом, – сглотнув, ответил ночной ловелас.
Взгляд у Рогачова был зорче того «кодака», от которого давеча едва успел увернуться. Что глазами сфотографировал – навсегда.
Паренек был невысок, коренаст, неладно скроен, но, похоже, крепко сшит. Настоящая рабочая косточка. Лицо простое, плоское, чухноватое – про такие говорят «медная пуговица».
– А меня Панкратом звать. Ты вот что, Филипп, давай-ка, проводи меня до набережной. Прояви гостеприимство, коли ты тут почти что свой.
Скосившись на пистолет, малый осторожно спросил:
– Политический? От шпиков бегаешь? Ладно, давай за мной.
Через черный ход в соседний «колодец», потом мимо дровяных сараев, до забора Филипп бежал первым.
– Давай подсажу, – сказал он, задыхаясь. – Лезь!
Поворачиваться спиной к малознакомому человеку у Рогачова в заводе не было.
– Ничего, я не барышня. Лезем одновременно.
Перелезли, спрыгнули.
– Теперь куда?
Парень медлил. Руки держал в карманах.
– Ты чего? Язык откусил, когда спрыгивал?
– Вон она, набережная, – показал Филипп. – Я чего сказать хотел… Может, я на улицу выгляну? Мало ли…
Хороший юнец, не обмануло чутье. Панкрат улыбнулся.
– Не надо. Чтоб филеров углядеть – это навык нужен. Давай, Филипп, лезь обратно. Спасибо тебе. Ради таких, как ты, по чужим дворам и бегаю…
Протянул парню руку, переложив «браунинг» в левую.
Ладонь у Филиппа была твердая, крепкая. Лезть через забор он не торопился.
– А может, всё ж таки сгожусь на что?
– Сгодишься, обязательно сгодишься. Скоро уже. Ну, давай!
Он подтолкнул провожатого. Тот нехотя вскарабкался, наверху оглянулся. Рогачов со смехом подпрыгнул, спихнул парня на ту сторону.
* * *
Когда один за другим от клобуковского дома умчали автомобили, когда у
Страница 25
еслась догонять генеральский лимузин пролетка с филерами, и быстрей завихрилась метель, и плотнее сгустилась ночь, фонарь над парадной покачался из стороны в сторону, бессмысленно высвечивая пространство, а потом вытянул из тьмы на свет сутулую долговязую фигуру в осеннем драповом пальто. Она остановилась у двери. Рука в несолидной шерстяной варежке потянулась открыть, неуверенно зависла, опустилась.Это вернулся Иннокентий Иванович, который, оказывается, никуда от дома не уходил, а просто дожидался за углом, пока все уедут.
Бог знает, что ему здесь было нужно. В парадную он так и не вошел. Потоптался минут пять. Затем попятился на мостовую и довольно долго не отрываясь глядел на освещенные окна.
Пробормотал:
– А что я могу? Только зря мучить… Нет дара, нет. Разве что…
И, будто вспомнив нечто очень важное, заспешил. Пошел, даже почти побежал по улице, иногда подскальзываясь и взмахивая длинными руками.
Он торопился в недальнюю Преображенскую церковь, про которую знал, что ее двери не запираются и ночью.
В безлюдном храме, где пахло сладким воском и тускло светились лампады, Иннокентий Иванович зажег свечу перед образом и долго, страстно молился о чем-то, шевеля мягкими губами. По дрожащему лицу, лицу пожухшего подростка, лились обильные слезы. Одна повисла на кончике уса и всё не желала падать.
* * *
А Татьяна Ипатьевна, пожелав сыну спокойной ночи, вернулась в гостиную.
– Антон хотел с тобой попрощаться, но я сказала: не надо…
И посмотрела вопросительно, виновато.
Муж улыбнулся.
– Правильно. Что бы я ему сказал? Если всей своею жизнью сказал недостаточно, что уж теперь… Знаешь, а я рад, что они пришли. Даже Примус явился из прошлого. Будто почувствовал. Это было как-то… правильно. Присядь, Таня. Еще есть время. Пусть Антон ляжет и погасит свет.
Она села и взяла его за руку. Марк Константинович выглядел умиротворенным и совсем не кашлял.
– Тебе лучше? – спросила Татьяна Ипатьевна. Ее вдруг заколотило. – Тебе лучше? Господи, может быть…
Он спокойно и твердо ответил:
– Ничего не может быть. Днем позже, днем раньше. Мы ведь договорились: это больше не обсуждается.
– Да.
И перестала дрожать.
Несколько минут сидели молча. Она поглаживала его руку, он чему-то улыбался.
Потом Татьяна Ипатьевна повернула голову. Слух у нее был отменный.
– Кажется, Паша возвращается. Наконец-то. Сейчас я ее отправлю.
На цыпочках, стремительно, чтобы успеть, пока не зазвонит звонок, не разбудит, быть может, уже уснувшего Антона, она прошла коридором.
Горничную встретила на лестничной площадке, перед дверью.
Раскрасневшаяся от холода и быстрой ходьбы Паша поднималась с двумя сумками.
– Уф, ну и набегалась я, Татьянипатьевна. Где только не была! В «Севере» закрыто, электричества нету. В «Ливадии» печать на двери, прикрыли их, водкой они торговали. Но я ничего, я вот колбаски хорошей, финской, и сыру рокфор в «Гельсингфорсе» взяла, даже не спрашивайте за сколько. Ветчинки в «Валдайском колокольчике», хорошей, прям со слезой. А главное с вином повезло…
Татьяна Ипатьевна знала, что с Пашей, пока не выговорится, объясняться бесполезно – не услышит. Поэтому ждала.
Семь лет назад Паша, шестнадцатилетняя деревенская девчонка, недавно вытравившая ребенка и сбежавшая от позора в город, попала в семью Клобуковых и стала здесь своей. Настолько, что обижалась и плакала, когда по совершеннолетии Татьяна Ипатьевна стала снимать для нее комнату. Все объяснения, что взрослому человеку нужно личное пространство и что у каждого есть право на частную жизнь, для Паши были пустым звуком. Она и доныне в плаксивую минуту всё допытывалась, в чем ее вина, за что ее «из дому отженили».
Забрав свертки, чтоб не обижать гордую добычей девушку, Татьяна Ипатьевна сказала:
– Спасибо тебе. Иди спать. Но завтра приходи пораньше, пока Антон не встал.
Вначале она пыталась на «вы», но Паша так пугалась непонятного обращения, что пришлось от него отказаться. Правда, Антону было строго-настрого велено разговаривать с «рабочим человеком» как разговаривают со взрослыми, и уж на этом Татьяна Ипатьевна стояла твердо.
– Прибрать что надо?
– Нет… То есть… – Хозяйка запнулась. – Нас с Марком Константиновичем уже не будет, так я тебе записку оставлю. Прямо в прихожей. Там будет всё объяснено.
Паша удивилась, вытаращила круглые глаза.
– А вы прямо щас объясните.
– Пока не могу. Нужно еще кое-что обдумать. Ты, главное, как дверь откроешь, сразу записку прочти.
– Ага. Ну, спокойненькой ночи.
Полненькая, но складная и проворная, Паша легко, вприпрыжку сбежала по лестнице, на прощанье махнув рукой с нижней площадки.
Татьяна Ипатьевна немного постояла с закрытыми глазами, держась за перила. Нужно идти. Марк ждет.
И ей внезапно захотелось, впервые с того момента, как всё было решено, чтобы скорее кончилось.
Они договорились, что это произойдет двадцать седьмого. В день, когда всё началось, всё и закончится. И Марк, конечно, прав. Надежды никакой, мучения всё тягостн
Страница 26
й. Если так или иначе уходить, то с достоинством, пока человек не превратился в кусок истерзанной плоти.Всё так. Всё правильно.
Она взяла себя в руки, вернулась в квартиру и закрыла за собой дверь. Снова очень тихо ступая, подошла к комнате Антона, прислушалась. Осторожно приоткрыла.
Сын лежал на диване, свесив руку, и крепко спал. На полу фотоаппарат. Была у Антона такая особенность, с раннего детства: делает что-то, потом вдруг зевнет, потянется и тут же засыпает – прямо на полу, среди кубиков, или в кресле, с раскрытой книгой. Потом – Татьяна Ипатьевна знала – Антон, с сомнамбулически полузакрытыми глазами, толком не проснувшись, встанет, расстелит постель, разденется и ляжет уже окончательно. Когда-то она пыталась отучить его от этой привычки, будила, отправляла чистить зубы, но это перебивало мальчику сон, пришлось смириться.
Смотреть на сына Татьяна Ипатьевна себе позволила всего несколько секунд. Почувствовав, что, как в момент ухода гостей, снова слабеет сердцем, поскорей притворила дверь.
До гостиной она шла на цыпочках и, прежде чем войти, остановилась на пороге.
Марк сидел в кресле, опустив голову. Лицо оказалось в тени, поэтому не было видно ни следов болезни, ни этой ужасной бороды, к которой Татьяна Ипатьевна так и не привыкла. И она чуть не ахнула.
Как похоже! Ровно двадцать лет назад она, влюбленная дурочка, принесла ему письмо солидарности от слушательниц Женских курсов, и никто не открывал, и она вошла, потому что дверь была незаперта. Заглянула в кабинет, а Марк сидел точно так же, как сейчас, обессиленный, потерянный, и у нее из памяти вылетела заготовленная речь. Подбежала, он поднял голову, и оказалось, что он вовсе не потерянный, а рассеянно-задумчивый. Говорить что-либо было поздно. Таня совершила самый смелый, самый умный поступок в своей жизни: обняла его и поцеловала.
Так же поступила она и теперь.
– Помнишь? – сказал Марк, улыбаясь. – Я тоже сейчас вспоминал… Знаешь, я чувствую, как в груди опять рокочет. Сейчас начнется. Не хочу. Хватит. Ты приготовила?
Она убрала руки с его плеч.
– Да. Сейчас.
Принесла из буфета чашку, прикрытую салфеткой.
Он взял, но смотрел не на яд, а на жену.
– Спасибо, что отпускаешь, – сказал Марк. – Спасибо, что ты такая сильная. А самое-рассамое спасибо за то, что ты была.
Он улыбнулся, осушил чашку и откинулся назад. Улыбка больше не сходила с его лица, но глаза были закрыты.
Татьяна Ипатьевна держала его запястье и старалась не шевелиться. Пульс постепенно делался медленней, прерывистей. Наконец совсем замер. Только по этому и можно было догадаться, что кончено.
Теперь Татьяна Ипатьевна заторопилась. У нее всё было продумано. Кто знает, что там. Всё может быть. Нельзя допустить, чтоб он ушел слишком далеко один.
Конверт с деньгами и запиской – в прихожую. На Пашу можно положиться. Она должна подготовить Антона, уберечь от потрясения. Чтоб он не вошел утром, ни о чем не подозревая, и не увидел.
И о том, чтоб он потом не остался без ухода, Паша тоже позаботится.
Как он будет жить, как выживет в это страшное время? С шестнадцати лет Татьяна Ипатьевна ни разу не перекрестилась, а тут подняла ко лбу сложенные пальцы. Но опустила руку. Бессмыслица и ложь самой себе.
Наскоро проглядела письмо сыну.
«Прости меня, милый Антоша. На тебя обрушился страшный удар, тебе будет очень тяжело. Но со мной тебе было бы еще тяжелей, потому что от меня всё равно осталась бы одна пустая оболочка. Ты знаешь, я всегда сходила с ума, когда отец куда-то уезжал или отлучался. Могу ли я отпустить его одного в такую дорогу?» Там было много, две страницы убористым почерком.
Сначала она как человек предусмотрительный выпила противорвотное. Потом достала из буфета еще одну чашку, больше первой. Для себя Татьяна Ипатьевна приготовила двойную дозу, потому что придется догонять.
Села на ковер, положила голову на колени мужа. Стала считать.
Раз. Два. Три. Четыре. Пять…
На пути к термину
Ближе всего к аристономии находится понятие «достоинство». Им я вначале и пользовался, пока не почувствовал, что оно перестало меня удовлетворять, а в некоторых случаях уводит в сторону и даже сбивает с толку.
Для того чтобы моя неудовлетворенность была понятна, придется рассмотреть концепцию достоинства в ее исторической перспективе и ее нынешнем состоянии.
Само представление о некоем похвальном качестве, облагораживающем человеческую натуру, впервые появляется у римлян – преемников стоической школы. У греческих философов, много рассуждавших о достойном и недостойном поведении, понятие «достоинство» (???????????, аксиопрепейя), кажется, не встречается вовсе. Аристотель в «Эвдемовой этике» упоминает некое качество (????????, сежнотес), которое иногда переводят словом «достоинство», но обозначает им всего лишь «нечто среднее между раболепством и неуступчивостью».
В римской литературе категория dignitas встречается часто, но обычно как принадлежность высокого социального статуса. «Достоинство» человеку приноси
Страница 27
должность или звание, вызывающие у окружающих почтительность. Употребление этого слова в ином, общечеловеческом значении распространено гораздо меньше и попадается, насколько мне известно, лишь в сочинениях Сенеки и Цицерона. У последнего dignitas hominis названо главным отличием человека от животного, а также, что для моего исследования очень важно, сопряжено с разумом, который «способен развиваться посредством учения и рассуждений». Об античном взгляде на интересующее меня Качество я подробно расскажу в соответствующей главе, пока же замечу лишь, что хронологически представление о развитии души, таким образом, примерно совпадает с началом христианской эры, то есть насчитывает около двух тысячелетий.Впрочем, раннее христианство идеей человеческого достоинства не интересовалось. В греческом тексте Евангелия слово семнотес если и попадается, то исключительно в смысле «серьезность» или «честность». Дефиницией отличия человека от других животных христианские вероучители занялись в последующие века, по мере оформления догм и воззрений победившей церкви. Вклад, который внесли в создание христианской концепции dignitas религиозные мыслители от Августина до Аквината, я опять-таки рассмотрю позднее, а сейчас довольно будет констатировать, что у религиозных философов достоинство признается за человеком, постольку и поскольку он несет в своей душе частицу Бога, и уже поэтому с людьми нельзя обращаться как с предметами или скотами – это является преступлением против Господа. Такая аргументация в пользу достоинства являлась в европейской этике единственно возможной вплоть до первых симптомов кризиса тотальной религиозности, который начался с появлением гуманизма и достиг апогея в Век Просвещения, когда авторитет церкви пошатнулся и ее догматы перестали удовлетворять коллективный разум быстро развивающегося общества. С этого времени, то есть с восемнадцатого столетия, взгляды на человеческое достоинство разделяются, чтоб никогда уже больше не сойтись.
Когда я изучал перемены в трактовке этого понятия, мне постоянно приходилось сталкиваться с терминологической путаницей, поскольку разные авторы и источники вкладывали в слово «достоинство» три разных смысла.
Первый из них сформулирован, например, в «Лексиконе английского языка» 1772 года: «Достоинство – ранг возвышения… Достоинство лучше всего представлено богато одетой леди… украшенной золотом и драгоценными камнями. Смысл слова вполне очевиден». Гоббс разъясняет термин хоть и менее простодушно, но в сущности точно таким же манером: «Общественная цена человека, то есть ценность, придаваемая ему Обществом, и есть то, что люди обычно именуют ДОСТОИНСТВОМ». Сто с лишним лет спустя в словаре Даля читаем всё то же: «ДОСТОИНСТВО \…\ – сан, звание, чин, значенье. Он достиг высоких достоинств» – и только как одно из значений прилагательного «достойный»: «сообразный с требованиями правды, чести».
Во втором смысле, который, как я уже писал, слову dignitas придал Цицерон, оно стало вновь употребляться – и чем дальше, тем чаще – главным образом, благодаря этическому учению Канта. Великий кенигсбержец писал: «Уважение, которое я испытываю по отношению к окружающим и которого они вправе требовать от меня (osservantia aliis praestanda), есть признание достоинства (dignitas) другого человека, то есть некоей ценности, не имеющей стоимости и не могущей быть обмененной ни на какой эквивалент, являющийся объектом оценки (aestimii)». Именно Кант утвердил в сознании общества идею о том, что человечество в целом и каждый его представитель в отдельности обладает достоинством уже в силу принадлежности к людскому роду.
Это понятие обрело юридический статус в декларациях первых демократических государств – Соединенных Штатов Америки и Французской республики, преобразовавшись в правовую категорию «гражданского достоинства», то есть неотчуждаемого права всякой личности на уважение. Трудно переоценить значение смысловой революции во взаимоотношениях человека и государства, произведенной кантовским требованием «обращаться с человеком, который есть нечто большее, чем машина, сообразно его достоинству». Те страны, которые раньше двинулись по этому пути и последовательнее его придерживались, ушли дальше и поднялись выше. В самом универсальном из всех документов, когда-либо принятых человечеством, недавно провозглашенной Декларации ООН, в самом первом параграфе, говорится: «Все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах». Конституция западногерманского государства, преодолевающего ужасные последствия фашизма, тоже начинается со слов: «Человеческое достоинство неприкосновенно. Уважать и защищать его будет долгом всех органов государственной власти». Этот взгляд в демократических странах сегодня является преобладающим.
Нельзя, впрочем, сказать, что у концепции человеческого достоинства как краеугольного камня общественной жизни не нашлось авторитетных критиков. Шопенгауэр, например, раздраженно называет это словосочетание «жупелом пустоголовых моралистов», которые «за это
Страница 28
импозантной формулой скрывают не только отсутствие настоящего этического базиса, но и вообще какого-либо внятного обоснования; они ловко рассчитали, что читателям будет лестно полагать, будто они наделены каким-то там „достоинством“».Ницше, которого, конечно, трудно считать авторитетом в вопросах этики, но который безусловно обладал превосходным стилистическим чутьем, называл идею человеческого достоинства «сентиментальным эгалитаризмом». Человек «абсолютный» ни в достоинстве, ни в правах не нуждается. Какое гротескное развитие взгляды этого поэта от философии получили в Германии двадцатого века, мы не только видели, но и, как говорится, испытали на собственной шкуре.
Не менее страшное развитие получила и критика этой концепции Марксом. Основоположник идеи государственного социализма называл «вопли» о человеческом достоинстве «бегством от истории в морализаторство». Властители моей страны, будучи правоверными марксистами, от истории в морализаторство не бегают и права на достоинство за своими гражданами не признают.
Поэтому мне особенно трудно присоединяться к числу критиков установившегося взгляда на достоинство как качество, достающееся каждому просто по праву рождения. То есть я, разумеется, ни в коем случае не оспариваю его в юридическом смысле: безусловно, каждый человек обладает неотчуждаемыми правами и обходиться с ним следует уважительно, но истинное достоинство не достигается одной лишь биологической принадлежностью к людскому роду, и в этом я отчасти согласен с мнением Шопенгауэра.
Вернее сказать, меня не удовлетворяет интерпретация, которую дает понятию человеческого достоинства «второй смысл» этого словосочетания. Мне хотелось наполнить это понятие иным, как мне кажется, более сущностным содержанием.
В этом, третьем значении достоинство есть не универсальная принадлежность человека, достающаяся всем от рождения, а некое индивидуальное качество, которое приходится выстрадать, вырастить в себе – и удается это далеко не всем.
Из авторов прошлого века подобное толкование достоинства я встретил у моего любимого Герцена, который в относительно малоизвестной статье «Историческое развитие чести» пишет: «У человека вместе с сознанием развивается потребность нечто свое спасти из вихря случайностей, поставить неприкосновенным и святым, почтить себя уважением его, поставить его выше жизни своей. Пристально вглядываясь в длинный ряд превращений чтимого, мы увидим, что основа ему не что иное как чувство собственного достоинства и стремление сохранить нравственную самобытность своей личности, и то и другое сначала в формах детских, потом отроческих, как во всех человеческих отношениях». И далее: «Неудовлетворенный общим делом, человек ищет свое дело, обращается внутрь себя, в груди своей начинает открывать нечто твердое и незыблемое, в себе находит мерило своего достоинства и хладнокровно смотрит на племя, на город, на государство: тогда быстро развивается в нем понятие чести и собственного достоинства». Здесь есть самое главное: идея о чувстве собственного достоинства как основе всего «чтимого» и признание важности развивать это чувство.
Итак, не статус и не естественное право, а внутреннее состояние, которое может вовсе отсутствовать или присутствовать, может развиваться или же, увы, утрачиваться. Вот тот аспект слишком расплывчатого и многозначного понятия dignitas, который является предметом моего исследования.
Стремясь к точности, я некоторое время использовал в своих записях аббревиатуру ЧСД (чувство собственного достоинства), под каковым имел в виду набор определенных нравственных и мировоззренческих признаков, самым главным из которых является естественное ощущение своего равенства с другими людьми, однако равенство вовсе не означает тождественности или заменяемости. Это напоминает равенство суверенных государств. Мир потерял бы много из своей красочности, если б в нем не существовало какой-то из составляющих его стран.
Такое отношение к себе и окружающим подразумевает высокую степень самоуважения и требовательности к себе, наличие развитой системы этических правил. Обо всем этом я буду подробно говорить в других разделах. На данном же этапе важно отметить, что ЧСД продвинутого уровня становится для человека не только благом, но и тяжким, подчас опасным бременем. Это чувствовали еще мыслители Возрождения, пытавшиеся вывести формулу достойного поведения. Очень красноречив аллегорический образ этой драгоценной, но громоздкой ноши, найденный мной в одной старинной книге:
Я уже касался этого предмета, но повторю снова: чем выше в человеке развито ЧСД, тем ниже его способность к выживанию. Слишком велик и строг набор внутренних регламентаций и табу. Классическая ситуация, в которой человек с ЧСД погибает первым – это давка у спасательных шлюпок на «Титанике» или паническая погрузка на последние пароходы, уходящие из Крыма в ноябре двадцатого года. Тот, кто обладает самоуважением и уважает права других, не станет спасать себя за чужой счет – и погибает в ледяных
Страница 29
одах Атлантики или подвалах Чрезвычайки. Понижение порога живучести – это цена, которую личность платит за более высокое качество своей духовной и умственной жизни[4 - Если сам я, будучи русским человеком двадцатого века, дожил до нынешних лет в своей стране и уцелел, то лишь потому, что, очевидно, не обладаю этим качеством в дозе, не совместимой с выживанием. Страх за себя или близких, ответственность за семью или просто животный инстинкт неоднократно оказывались во мне сильнее чувства собственного достоинства.].Однако наступил момент, когда и неуклюжее обозначение ЧСД перестало казаться мне достаточно точным. Произошло это после того, как я прочитал в англоязычном философском журнале одну статью. Когда я увидел ссылку на нее в научном медицинском издании, мне ужасно захотелось ее прочесть, ибо она называлась «The sense of dignity». Для этого мне пришлось всякими правдами и неправдами добиваться допуска в отдел спецхранения Ленинской библиотеки. Наконец я ознакомился с текстом. Это было обстоятельнейшее и благонамереннейшее рассуждение о том, что всякий человек обладает чувством своего достоинства, покушение на которое он воспринимает весьма болезненно, и что у некоторых индивидов это чувство даже бывает болезненным – и с такими людьми следует обращаться с особенной деликатностью.
То есть, оказывается, и термин ЧСД имеет оттенок субъективности, ибо может никак не соотноситься с истинным положением дел. Разве не исполнен чувства собственного достоинства какой-нибудь чинуша, восседающий в президиуме на профсоюзном или партийном собрании?
И я понял: не то, опять не то! «Чувства» здесь ни при чем.
Более того, меня всё больше не устраивало ключевое слово «достоинство» – чисто этимологически. В нем есть что-то важничающее, надутое, даже спесивое. Смущает родство с глаголом «стоить», который вызывает ассоциации с денежным либо каким-то иным эквивалентом. Ну и еще лезет на ум словосочетание «мужское достоинство», снижающее термин до уровня скабрезности.
Я попытался ввести определение, позаимствовав слово из какого-нибудь иного языка, чтобы избежать «побочных эффектов». Но выяснилось, что эта трудность имеет не внутрирусский, а вселенский характер.
Начал я, естественно, с европейских языков. Вскоре выяснилось, что те из них, которые мне хоть до какой-то степени знакомы, возводят понятия, связанные с Достоинством, к двум корням: латинскому dignus (заслуживающий уважения, почитания) или старогерманскому wirdi (нечто, имеющее цену). Таковы английское dignity, французское dignitе, испанское dignidad, итальянское dignitа и т. п., с одной стороны, и английское же worth, немецкое W?rde, шведское V?rdighet и т. п., с другой. То есть главное завоевание эволюции язык оценивает в категориях либо чего-то такого, что почтенно выглядит в глазах окружающих, либо, того пуще, объекта, имеющего некую большую или меньшую цену. При этом совершенно очевидно, что распятый на кресте Галилеянин – высшее олицетворение Качества – в глазах солдат и толпы никак не мог выглядеть dignus, a worth этой эфемерной субстанции не поддается исчислению, ибо ни продать, ни купить ее невозможно.
Попробовал я взглянуть шире латинско-германской сферы, но и там ничто меня не порадовало. Вспомнилось мне, что по-украински «достоинство» будет гiднiсть, но тут опять слышится явный оттенок утилитарности. То же с чешским ctihodnost или польским wartosc, в котором сквозит знакомое wird?.
За пределами европейского континента у меня хватило кругозора заглянуть в древнееврейский язык. Слово «каво?д» восходит к корню, означающему нечто весомое, солидное. Пожалуй, это все тот же dignus, то есть почтительность со стороны окружающих. К тому же, насколько мне известно, еврейская религия учит, что достоинство человек может обрести, лишь изучая Тору. Кто глубже в нее вник, тот и есть самый достойный. Нет, это явно не то, что я искал.
Уже не в расчете найти правильно звучащий термин, а из чистого любопытства, я устремил взгляд на иероглифические языки, где понятие обозначается при помощи пиктограммического письма, обладающего наибольшей этимологической наглядностью.
Китайское слово цзунъян, как мне объяснили, складывается из двух иероглифов ?? первый из которых означает нечто, внушающее уважение, а второй – нечто суровое, вызывающее страх. Снова dignus, только в обличьи богдыхана или председателя Мао.
Японцы чаще используют другие иероглифы: ?? (исин). Второй из них мне понравился – он означает «истина». Но первый, увы, опять обозначает нечто пугающее, а Качество, которое я исследую, присуще людям, не желающим никому внушать страх.
В общем, после долгих поисков и размышлений мне стало ясно, что правильней будет изобрести термин самому. Для того чтобы его значение хотя бы приблизительно было понятно всякому мало-мальски образованному человеку, удобней воспользоваться греческими корнями, использующимися в иных, широко распространенных словах. Так поступали многие и до меня, когда возникала потребность дать наименование какому-то нов
Страница 30
му (кинематограф, телефон, психоанализ) или старому, но недавно распознанному явлению (шизофрения, протоплазма, амнезия).Я выделил два «несущих» элемента Качества: улучшение, которого благодаря ему достигает человеческая душа, и внутренний закон, которому неукоснительно следует личность, обладающая достоинством (в третьем смысле этого слова). Воспоминаний о гимназических уроках древнегреческого оказалось вполне достаточно, чтобы выполнить это несложное задание.
Вторым компонентом, конечно же, должен был стать ????? («закон», «принцип») в его обычно употребляемой У нас латинизированной форме: то есть не «-номос», а «-номия».
Не возникло трудностей и с первой половиной. Для нее проще всего воспользоваться понятием ?????, которым греки определяли всё хорошее, качественное, достохвальное. Одно из ранних значений арете – «прожить полноценную жизнь», то есть именно то, что я искал. В своем месте я расскажу об использовании арете в этическом учении Платона и Аристотеля, но и в позднейшие времена существовала целая отрасль моральной философии, именуемая аретологией. В античной Греции арете считалась одной из непременных составных частей педии, то есть образования подростков, и включала в себя помимо физических упражнений ораторское искусство с риторикой, обучение наукам и воспитание духа посредством постижения музыки и добродетели.
Чтобы передать идею развития, то есть движения от хорошего к лучшему, мне показалось логичным воспользоваться однокоренным с ????? словом ???????, означающим «наилучший». Меня не смущает то, что производное от аристос понятие аристократии, первоначально означавшее «власть лучших людей», в историческом смысле сильно скомпрометировано. Несмотря на это, понятие аристократизма для многих сохраняет обаятельность, во всяком случае, когда речь идет не о барстве или сословном чванстве, а о хороших манерах и внутреннем благородстве натуры.
«Аристономия» – это закон всего лучшего, что накапливается в душе отдельного человека или в коллективном сознании общества вследствие эволюции. К дворянскому происхождению такое Качество не имеет никакого отношения. Со временем я привык к этому термину и, как будет видно из дальнейшего, стал использовать его в различных вариациях: у меня фигурируют «аристофилы» и «аристофобы», «аристономические характеристики» и «аристобежные тенденции», «аристогенные условия» и жестокие «диктаторы-аристофаги».
Сегодня я уже не представляю, как обходился прежде без всех этих понятий. Мне кажется, что они существовали всегда. Иногда в разговоре с кем-нибудь они сами соскальзывают у меня с языка, и я удивляюсь, что собеседник меня не понимает.
(Из семейного фотоальбома)
* * *
– … с ним. И так ладно.
Караульный почесал затылок, стряхнул рукавом осколки с подоконника.
Антону было дано простое задание: распечатать окно, потому что с каждым днем всё теплее, к концу присутствия солнце прокаливает коридор до невыносимости, жарко, а тут люди иногда сидят часами, дожидаются вызова на допрос.
Рамы с осени были заклеены аккуратно, на совесть. Пришлось идти за помощью в караулку. Антон солдату – про горячую воду (Паша весной бумажные, промазанные молочным клеем полоски всегда отмачивает, и они сходят сами), а здоровенный преображенец просто подошел, взялся, рванул – стекло и посыпалось.
– Всё одно лето скоро. А зима – она когда еще будет, – беспечно сказал солдат и распахнул окна настежь.
Свежий воздух хлынул в раскупоренное помещение, будто в лицо брызнули ароматической водой из гигантской резиновой груши.
Весна! Самая свежая, самая солнечная, самая лучшая весна в истории России – нет, в истории всего человечества, потому что Бастилию взяли летом, и потом, там же по толпе из пушек стреляли и носили на пиках окровавленные головы, а у нас никаких ужасов не было. Свобода победила почти бескровно, почти без выстрелов. Что такое две или три сотни жертв для двухсполовиноймиллионного Петрограда, для стосорокамиллионной страны?
Какой-то дамский еженедельник назвал Февраль «революцией мимоз» и был дружно высмеян остальной прессой. А, ей-богу, зря. У Антона та невероятная неделя, когда ты каждый миг остро ощущал: жизнь выскочила из наезженной колеи, всё впервые, всё невиданное, всё настоящее, запечатлелась в памяти триколором из белого – снег, алого – кумачовые флаги и желтого – потому что повсюду продавали или раздавали так, бесплатно, пушистые желтые ветки, других цветов еще не было.
Ах, как это было волшебно и сильно! Будто брел, брел, увязая в снежной затоптанной каше, и вдруг взлетел, да не один, а вместе с целым городом, и смотришь на мир из-под облаков, и захватывает дух, но нисколько не страшно, потому что все заодно, всем весело и полет только начинается!
С улиц исчезла полиция, но преступлений не было. Порядок поддерживался будто сам собой. Ночью не грабили, кошельков не «тырили», и казалось, так теперь будет всегда. Ведь новый мир раскрылся всем, в том числе бандитам и карманникам – они тоже могут начать жизнь с чистог
Страница 31
листа. Самое удивительное, что все стали очень вежливыми друг с другом и сами этому умилялись. Чуть где возникнет неурядица – давка на трамвайной остановке или политический спор перейдет в хватание за грудки, – тут же студент или солдат (студентов и особенно солдат все ужасно полюбили) подходит, начинает увещевать: «Что же вы, сознательные граждане, а так себя ведете?» И спохватываются крикуны, смущенно улыбаются. Не раз вспоминались Антону унылые пророчества тайного советника Ознобишина про «город без городового». Плохо же вы знали собственный народ, ваше превосходительство! Потому он вашу власть и скинул.Россия, заморенная нескончаемой войной, будто обрела второе дыхание. Одно дело – воевать для царя, и совсем другое – для себя, говорили все. Еще говорили: революция была необходима, чтобы победить во Второй Отечественной.
В стране, некогда устраивавшей многотысячные верноподданнические манифестации, как-то вообще не осталось монархистов. В интеллигентных кругах про свергнутого царя почти не говорили – всё ясно, скучно, и зачем поминать вчерашний день, когда так фантастически интересен сегодняшний? Вульгарная публика нарасхват покупала книжонки про «царицу Сашку» и «кобеля Гришку».
Естественно, подъем высоких чувств долго продолжаться не может. Прошла неделя-другая, и тусклая проза жизни начала заглушать и вытеснять с улиц поэтическое опьянение, потому что люди не ангелы и мгновенное перерождение невозможно. Да, в городе грязь и неустройство. Да, снова грабят и воруют, намного больше, чем прежде, когда существовала нормальная полиция. Но надо же уметь видеть за мелким и временным величественное, вечное. Как точно сказал, выступая перед сотрудниками комиссии, Аркадий Львович! «Благодаря революции переменилось главное. Маленький человек перестал быть маленьким. Все словно перестали сутулиться, распрямили плечи, подняли голову, огляделись вокруг и увидели, что мир – не лужа под ногами и не грязь на собственных галошах». И это именно так!
Личное, частное, эгоистическое сжалось, потрясенное размахом событий. У Антона имелась собственная причина быть благодарным революции: она помогла ему излечиться от ужасного потрясения. Теперь даже становилось стыдно из-за того, что он редко вспоминает отца и мать. Казалось, несчастье произошло давным-давно, в другой жизни и другом столетии.
Тут еще, конечно, нужно сказать спасибо службе. Именно она позволяла чувствовать себя не наблюдателем, а соучастником или во всяком случае привилегированным свидетелем исторических перемен.
ЧСК (если полностью – «Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц») была образована почти сразу после победы как ответ на долго копившееся общественное раздражение против злоупотреблений самодержавной власти. Этот орган, наделенный особым статусом и широчайшими полномочиями, вел следствие по делам лишь самых высших сановников империи, не ниже тайного советника. Было принято справедливое и великодушное решение: привлекать к ответу не врагов революции, а лишь тех, кто нарушал собственные же законы, то есть, существуй при царе настоящее правосудие, всё равно подлежал бы суду как преступник.
Дабы подчеркнуть важность миссии, возложенной на ЧСК, новосозданное учреждение разместили прямо в Зимнем дворце, в запасной его половине, на втором этаже. Здесь было, конечно, не так роскошно, как в парадной части императорской резиденции, а всё же вряд ли следственные мероприятия когда-либо проводились в столь величественном антураже, и уж точно никакие канцелярские работники прежде не могли скрипеть перьями и стучать по пишущим машинкам средь подобного бронзово-лепнинного великолепия. Первые дни вокруг скользили растерянные лакеи в золоченых ливреях, будто экспонаты, сбежавшие из музея восковых фигур. Предлагали чай и кофей, норовили «принять» шапку и пальто. Но преображенцы из караула обращались с «николашкиными прихвостнями» грубо, и потихоньку осколки режима один за другим исчезли. (Потому-то и хряснуло ни в чем не повинное окно в прямом, как кавалергардский палаш, коридоре.)
Антон Клобуков попал в горнило революционной справедливости на самую мелкую, самую незначительную должность, но и это было невероятной, совершенно незаслуженной удачей. Работой Комиссии руководил Президиум, в который входили лучшие юристы и заслуженнейшие общественные деятели; роль адъютантов и помощников исполняли так называемые «наблюдающие» из числа прогрессивно мыслящей юридической молодежи; практическую работу вели двадцать пять следователей-«техников». И это не считая штата секретарей, курьеров, машинисток и стенографистов. Средь сих последних нашлось место и для Антона, по рекомендации Аркадия Львовича Знаменского, одного из заметнейших членов Президиума.
«Младший стенографист» – звучит вроде бы скромно. Но это если не знать, что начальствует над стенографической частью сам Александр Блок, а соседи по комнате у Антона такие, что первое вре
Страница 32
я он боялся при них лишний раз рот открыть.Дело вовсе не в том (то есть и в этом, конечно, тоже), что оба они владели искусством стенографирования блистательно, в то время как Антон всё время отставал и путался. Скорописи он обучился самоучкой, позапрошлым летом, когда поступил в университет и был полон благих намерений – учиться всерьез, записывать лекции слово в слово. Но пыл вскоре угас, стенографические навыки подзабылись, и в первый же день работы коллегам стало ясно: молодого человека пристроили сюда по протекции, что Антону и было высказано сразу, в лоб суровым Дьячковым. Лавкадий Васильевич хотел немедленно гнать «помпадура» в шею, но заступился второй сосед, Август Николаевич Аренский. К тому же Антон пообещал, что возьмет на себя черновую работу: расшифровывать записи и вычитывать их после машинки. Тем самым он лишил себя возможности лично присутствовать на допросах деятелей старого режима, но все-таки сохранил место.
Что стенография! Будто в ней одной дело. Антон во всех, абсолютно во всех отношениях был пигмеем в сравнении со своими старшими товарищами.
Дьячков поступил в Комиссию по мандату Общества политических каторжан и ссыльных. Он был «мученик царизма», это почетное звание теперь вошло в повсеместный обиход. Когда-то сидел в крепости, еще по делу Генералова, получил пожизненную каторгу и на свободу вышел только в девятьсот пятом, преждевременно состарившийся, больной, со сломанной жизнью, совершенно одинокий. Чтоб как-то кормиться, обучился стенографии и год за годом слеп над протоколами в уездном суде. Лавкадий Васильевич был человек колючий, педантичный и весь какой-то несуразный – под стать своему странному имени. Тощий, с серо-стальным бобриком волос, с резкими морщинами, он казался глубоким стариком.
При этом однажды выяснилось, что он годом моложе Аренского, цветущего и румяного красавца в самом соку. Август Николаевич не придирался к младшему стенографу, держался добродушно и приветливо, но его Антон робел еще больше. Ведь это был тот самый Аренский, модный писатель, известный всей грамотной России. Его романам о тайнах большого света и секретах дипломатии взыскательные критики сулили недолгую жизнь, однако публика читала Аренского охотней, чем Максима Горького или Чехова. Август Николаевич в Комиссию приезжал на авто с шофером, однако скромно оставлял машину за утлом Миллионной и одевался не в свой знаменитый смокинг с цветком вереска в петлице, а просто, «по-рабочему», то есть в твидовые пиджаки с замшевыми налокотниками. Он говорил: «Я счастлив быть ефрейтором Революции», однако не скрывал, что рассчитывает собрать в Комиссии материал для романа или даже целой серии романов. Стенографист он был отличный – в свое время выучился, потому что у него «перо вечно не поспевало за вдохновением». Нечего и говорить, что Дьячков «бумагомарателя» презирал почти так же, как «помпадура», и старшие стенографисты беспрестанно между собою пикировались.
Когда Антон, решив проблему вентиляции методом Гордиева узла, вернулся в кабинет, оба соседа были на месте. Приближалось время обеда, теперь до трех часов допросов не будет. Дьячков разжигал спиртовку. У него было мудреное диетическое питание для язвенников, он приносил на службу в судках что-то протертое. Аренский же обыкновенно в четверть второго укатывал в «Англетер», где для него держали особый столик. К нему туда каждый день, чуть ли не в очередь, приезжали знакомые – составить компанию и послушать сенсационные рассказы о ходе следствия.
– Что за чушь вы плетете? – ворчливо говорил Лавкадий Васильевич, зажигая спичку. – Какие, к дьяволу, две копейки?
– Именно две и именно копейки. – Аренский глянул на часы и опустился на стул, закинув ногу на ногу. Очевидно, уходить ему было еще рановато. – Это моё собственное открытие. Вклад в историческую науку. Трехсотлетняя империя Романовых рухнула из-за двух копеек.
Слушать его всегда было интересно, даже если писатель нес что-нибудь завиральное. Антон тихо сел.
Дьячков сердито фыркнул, махнул рукой: мели, Емеля.
– То есть, причина, конечно, не в двух копейках, а в уязвимости государственной власти, когда она вся сосредоточена в одной географической точке, – с удовольствием продолжил Август Николаевич, поглаживая холеную, перец с солью, бородку. Должно быть, он репетировал спич, которым собирался за обедом развлечь приятелей. – Это всё так: чья столица, того и Россия. Однако непосредственный повод, последняя капелька – именно две копейки.
– У народа терпежу не стало! Голод подступил! Хлеба не было! – начинал закипать Дьячков. – При чем тут ваши две копейки?
– Объясню. Зерна в России более чем достаточно. Из-за того что экспорта в Европу нет, все склады переполнены. Так что не в голоде дело. Известно ли вам, что в Петрограде по приказу градоначальства, в целях борьбы с повышением цен, были введены предельно допустимые цены на хлеб: черный не мог стоить больше семи с половиной копеек за фунт? А выпекать его обходится дороже, чем белый. Себестоимость того же фунта выходи
Страница 33
а в девять с половиной копеек. Какой пекарь захочет отдавать хлеб, приплачивая собственные две копейки? Потому и вышло, что повсюду продавался один белый, а за черным огромные «хвосты». Притом черным хлебом кто кормится? Простонародье, беднота. А зима, холодно. От прилавка, где булки и кексы, преспокойно отходит «чистая публика», благоухая свежей выпечкой. В «хвосте» за «черняшкой» все кипят. И вот двадцать третьего февраля перед намерзшейся, раздраженной очередью булочник вывешивает объявление: «Сегодня хлеба не будет». У какой-то бабы припадок истерики. В витрину летит камень. И пошло-поехало. Посыпались стекла в бакалейной лавке. Потом на соседней улице. И заполыхал Питер. Лондон во время Великого Пожара сгорел от одной искры. Москва в шестнадцатом столетии превратилась в пепелище от грошовой свечки. А наша революция, получается, образовалась из-за двух копеек. Так в учебниках истории и напишут: Двухкопеечная Революция.Лавкадий Васильевич в сердцах шмякнул об стол спичечным коробком.
– Не смейте оскорблять революцию! Мелочный, мещанский взгляд! Такое может говорить только законченный пошляк!
Антон вжал голову в плечи. В русской интеллигентской среде нет более бранного слова, чем «пошлость» или «пошляк». Понятно, что Августу Николаевичу нравится дразнить желчного коллегу, но сейчас, кажется, он перегнул палку. Шло к нешуточной ссоре.
Аренский встал и выпрямился во весь свой немалый рост. Румяное лицо раскраснелось еще пуще. Смерив оппонента презрительным взглядом, писатель процедил:
– Считайте, что в ответ я вас обозвал самым оскорбительным для вас образом. Употребите свое тусклое воображение, а то мне лень.
Воображение у Лавкадия Васильевича вовсе не было тусклым. Он, должно быть, представил себе, как его мог бы обозвать Аренский, и весь побелел, затрясся.
– А вы… А вы считайте, что я за это отвесил вам пощечину!
Но такого высокого накала страстей Август Николаевич не вынес. Природное добродушие и чувство юмора одержали верх.
– Вот и отлично. Считайте, что за пощечину я вас вызвал на дуэль и укокошил. Вечная вам память.
Он захохотал, блеснув чудесными белыми зубами. Антон тоже не удержался, прыснул. Дьячков еще несколько секунд сердито сверкал глазами на покатывающихся со смеху коллег, да и плюнул.
– Клоуны… Бим и Бом, – буркнул он. – А я сегодня Штюрмера стенографировал. Какие же ничтожества нами управляли! И это совсем, совсем не смешно.
Дьячков был вспыльчив, но отходчив, а узнать про допрос бывшего главы правительства хотелось и Аренскому, и Антону. Слушая гневный рассказ о распутинском прихвостне, который юлил, плакался о слабом здоровье и валил вину на других, Антон, конечно, делал поправку на предвзятость и ожесточенность Лавкадия Васильевича, но за дни работы в Комиссии у него и самого сложилось самое невыгодное мнение о деятелях свергнутого режима. Обидно было думать, что от людей вроде Хвостова, которого назначили министром только после того, как Старец лично приезжал «смотреть его душу», или от явного психопата Протопопова совсем недавно зависела твоя жизнь, участь всей огромной страны. Люди гибли в окопах, теряли близких, терпели лишения, даже не подозревая, что их судьбу решают – нет, даже не Хвостовы с Протопоповыми, а юркие посредники, мелкие бесы, вертлявые проходимцы типа князя Андронникова или Манасевича-Мануйлова. Заказы на миллионные поставки и военные заказы раздавались «своим человечкам», прокуратура исполняла команды Охранки, суды принимали решения по указке свыше, должностные преступления покрывались, «чтоб не выносить сора из избы».
Из-за своей стенографистской никчемности сам Антон на допросах не присутствовал, но обязательно выходил в коридор посмотреть, если из Петропавловки или с Фурштатского доставляли кого-нибудь важного. Когда третьего дня привезли Вырубову, на всем этаже прервался треск машинок, в дверях столпились сотрудники и молча наблюдали, как по коридору в сопровождении двухметрового гвардейца ковыляет на костылях одутловатая, болезненно желтая наперсница императрицы. Антон был ужасно разочарован. Он представлял себе «злую фею» царизма чувственной иродиадой, а это – что это? Сразу видно, что никаких оргий со Старцем не было и быть не могло. Даже жалко ее стало. Зачем мучают бедную инвалидку?
Он так и сказал позавчера, вернувшись в комнату: достойно ли революции проявлять мстительность по отношению к слабой и, возможно, оклеветанной женщине?
Между его коллегами развернулся спор, в котором оппоненты скоро забыли и о бывшей фрейлине, и об Антоне. Тема была актуальная, даже воспаленная. Какой должна быть победившая революция: карающей или милосердной?
Лавкадий Васильевич, разумеется, отстаивал суровость, и, учитывая историю его искалеченной жизни, старика невозможно было за это осуждать. Его устами будто говорила вся обездоленная масса, не забывшая и не простившая унижений, несправедливостей, лишений.
– Зло нельзя миловать, – говорил Дьячков, – ибо это нарушает великий закон справедливости. Щадить негодяя – такое же пр
Страница 34
ступление, как не воздать по заслугам герою. Если мы не осудим и не покараем каждого деятеля преступной власти, вплоть до последнего хапуги-околоточного, они очень скоро расправят плечи и вновь полезут вверх, будто сорная трава. Такая уж это гнусная порода. Все эти бывшие жандармы, черносотенцы, верноподданнические ловчилы моментально перекрасятся, понацепят красных бантов, громче всех запоют «Марсельезу», и мы не успеем оглянуться, как они опять усядутся нам на шею. Кто будет виноват кроме нас с вами, кроме интеллигентского слюнтяйства и мягкосердечия? Нет, товарищи. Царя и царицу как главных виновников российских бед нужно судить всенародным судом и предать смерти, как были казнены Карл Английский и Людовик со своей Марией-Антуанеттой. Прихвостней можно оставить в живых, но отправить в Зерентуй, на каторгу, пусть погремят кандалами, как мы! А всем, кто служил в жандармерии и Охранке, кто занимал высокие посты, кто состоял в реакционных партиях, надо запретить лет на десять или пятнадцать поступать на государственные должности. Вот тогда, быть может, революция и сумеет отстоять свои завоевания!Август Николаевич с ним не соглашался.
– Революция – не просто смена одного режима власти на другой. Это принципиальный переворот в отношении людей друг к другу и к своему государству, – говорил он. – Через подавление и страх ничего хорошего никогда еще не создавалось. Уродливые методы порождают лишь новое уродство. Чтобы покарать такую прорву людей, нам придется создавать нешуточную карательную систему. А ее только заведи – она сразу начнет жить собственной жизнью, искать всё новых врагов. Никого не надо казнить! В свободной стране не может быть смертной казни, ибо она – гнусность и позор для общества. Судить хозяев и слуг старого режима, конечно, нужно. Но не для того, чтоб их расстрелять или упечь на каторгу, а чтобы выставить напоказ их порочность и навсегда лишить царизм морального авторитета. Понимаете: не монарха нам надо истребить, а монархическую идею. Насчет люстрации я с вами согласен. Но ее тоже нельзя проводить огульно. Мало ли в государственных учреждениях самодержавной России, в том числе на высоких постах, было честных, добросовестных работников? Этак можно остаться без профессионалов. Не кухарки же у нас будут управлять государством?
Антон слушал и не знал, кто из них прав. А закончился спор, как обычно. Лавкадий Васильевич вспылил, обозвал оппонента «добряком от сытости». В ответ получил «желудочно-кислотного мизантропа». Так разругались, что Дьячков потом жаловался самому Знаменскому, и тот долго успокаивал мученика царизма.
Аркадий Львович непременно, хотя бы раз в день, обходил все комнаты Комиссии, разговаривал с сотрудниками, даже самыми низовыми. Он придавал этому обряду особое значение: новая власть должна быть демократична и неспесива. Глава ведомства от рядового работника отличается лишь кругом обязанностей и размером жалованья, в прочем же они равноправные товарищи. Звучный, превосходно поставленный баритон Знаменского можно было услышать и в машинном бюро, и в курьерской, и даже в караулке. Он словно стал выше ростом, статнее. И хоть любил сказать про себя, что он «крапивного семени», внук деревенского дьячка, однако выглядел истинным аристократом – из тех, которые, по выражению Достоевского, так обаятельны в революции. Барышни из канцелярии все поголовно были влюблены в эффектную белую прядь, венчавшую высокое чело. Сам же Аркадий Львович очень мило иронизировал по поводу своей внешности. «Эспаньолку я отрастил, чтоб удлинить кругловатое лицо и стушевать безвольную линию подбородка, – лукаво рассказывал он как-то в присутствии Антона. – Без пенсне вполне мог бы обойтись, близорукость несильная, и, когда нужно выглядеть помужественней, я его снимаю. Седую прядь следовало бы выстричь, но она хорошо видна издали и чудесно выделяет меня на коллективных фотографиях».
До переворота Знаменский в Думе считался «независимым левым», однако теперь всё больше солидаризировался с эсэрами, поскольку, как говорил он, раз уж установленный порядок не удержался и рухнул, теперь без крена в социалистическую сторону не обойтись. Он не стал ни министром, ни даже товарищем министра, да и в ЧСК формально считался просто членом Президиума, но в правительстве прислушивались к нему больше, чем к председателю, а в самой Комиссии по всякому важному и не важному вопросу шли к Аркадию Львовичу. Он был прост, доступен, его быстрый ум легко находил выход из любого затруднения. Довольно было увидеть, какой легкой, победительной походкой шагает Знаменский по коридору, чтоб сразу понять: этот человек на подъеме и взлете, его звезда еще не достигла своего апогея.
И когда, в середине желчного рассказа о допросе Штюрмера, дверь вдруг отворилась и вошел Аркадий Львович с обычным веселым вопросом-приветствием: «Ну, как тут мои скрижальщики истории?» – в кабинете будто сделалось светлее. Аренский просиял приязненной улыбкой, золоченые каминные часы радостно брякнули четверть часа, и даже сварливый Дьячков не
Страница 35
биделся, что его прервали.– Скрижалим помаленьку, ваше высокопревосходительство, – бодро доложил писатель.
Лавкадий Васильевич всегда отвечал по существу:
– Я стенографировал допрос Штюрмера, товарищ Знаменский.
Антон же поскорей вытащил из ящика фотокамеру – утром принес из дому, чтобы сделать исторический снимок.
– Аркадий Львович, господа, в память о совместной работе… – И расстегнул футляр. – Займет одну минуту.
Старшие коллеги были только рады сфотографироваться с большим человеком. Знаменский покосился на часы, кивнул.
– Давай. Только быстро. Мне в двадцать минут нужно быть на Президиуме.
– Я мигом!
У Антона всё было продумано. Он выскочил в коридор, замахал фельдфебелю Лабуденко, начальнику смены караула.
– Снимите нас, пожалуйста. Я покажу, какую кнопку нажать.
Лабуденко, рослый усач с крестом и медалью на груди, спросил:
– С товарищем Знаменским? Я тоже желаю. Клобуков, не жидись. И фотку после отпечатай, своим в Елабугу пошлю.
– А снимать кто будет?
– Это мы устроим.
Фельдфебель подозвал того самого криворукого солдата, что давеча расколотил стекло, и стал распоряжаться подготовкой к съемке.
– Сюда пожалуйте, – попросил он Аркадия Львовича, поставив посередине кабинета стул. – Вы, господа, по бокам сядайте. Ты, Клобуков, сзади встань, а я в горизонталии.
Сам улегся на полу, расправил усы, вынул из кобуры офицерский «наган».
– Давай, Трофимов. Делай, как стенограф скажет.
Прежде чем встать на место, Антон установил выдержку, навел фокус. Света было много, и правильный – наискось.
Аркадий Львович тем временем рассказывал Аренскому (они были давние знакомцы):
– Римму почти не вижу. Вы слышали, что она придумала? Нет? Женское движение с лозунгом: «Бок о бок с мужчинами». Воюет с феминистками, которые не хотят бок о бок. Ужас какие страсти.
– Внимание, пожалуйста. Смотрите в камеру, не шевелитесь! – попросил Антон. – Жми, Трофимов. И еще раз, пожалуйста, для верности!
Потом Аркадий Львович унесся на свою важную встречу, Аренский тоже заторопился – опаздывал в ресторан, но Антону пришлось задержаться: фельдфебель потребовал снять его уже персонально – «анвасом и профилем».
– Напечатай в лучшем виде, товарищ. За нами не заржавеет, – сказал он.
Минут двадцать лишних на всё это ушло, и без четверти два раздался звонок.
Трубку снял Дьячков, он любил отвечать на телефон.
– Стенографический отдел Чрезвычайной комиссии. Слушаю.
Разочарованно повернулся:
– Клобуков, это вас.
– Чего ты, Антош? – сказала Паша и хихикнула. – Суп горячий, стынет. И я тож…
– Бегу, бегу. – И почувствовал, что краснеет.
Спрятал фотоаппарат, подхватил пальто, шапку.
– Стыдно, юноша, – сурово заметил Лавкадий Васильевич.
Антон вздрогнул. Слышал он, что ли? Не может быть!
– Стыдно пользоваться услугами горничной. Всякий, кто здоров, обязан обслуживать себя сам.
A-а, вот он про что.
– Это не горничная. Это моя жена.
Но Дьячков не поверил.
– Жена? В вашем возрасте? И потом, жена не обратится по телефону: «Мил человек».
И тут Антон взял реванш, разом за всё.
– Моя жена из бедной крестьянской семьи. А обращение «мил человек», по-моему, ничуть не хуже, чем «господин» или даже «гражданин».
Впервые мученик царизма поглядел на юного коллегу не как на инфузорию, а с удивлением. Возможно, даже уважительным.
Очень довольный, Антон неторопливо вышел из кабинета и перешел на бег уже за дверью.
С Пашей всё вышло просто и сильно. Потому что сама она была такой: простой и сильной. И что бы она ни делала, выходило естественно, толково и правильно – будто может быть только так и никак иначе. Поразительно: он близко видел и хорошо знал Пашу столько лет, с детства, а главного в ней не распознал. Она как самое жизнь – прочная, теплая, несомненная.
Утром в тот день, который разделил существование Антона на до и после, Паша разбудила его громким плачем. Причитая и всхлипывая, обняла, прижала голову ничего не понимающего «сиротинушки» к горячей полной груди и не позволила подняться с кровати, даже когда он понял из ее бессвязных слов, что отец и мать умерли.
Тогда он тоже затрясся, зарыдал, и Паша гладила его, шептала ласковые слова, как больному ребенку. Укутала, велела лежать. Великое оцепенение нашло на Антона. Ни воли, ни мыслей, ни сил. И потом он действовал, как автомат. Делал, что говорила Паша, а если ничего не говорила – ничего не делал.
«Одевайся» – оделся.
«Не выходи, пока не увезут» – не выходил.
«Подпиши дохтуру бумагу» – подписал.
«Поешь» – поел.
Неизвестно чем закончился бы этот паралич чувств. Но когда чужие люди ушли и унесли носилки, и в квартире опять стало тихо, Паша уложила его на кровать в родительской спальне, накрыла, а сама легла рядом. Она не оставляла Антона ни на минуту. Плакала, причитала, гладила, целовала. Он начал понемногу отмякать, однако всё равно был словно затянут ледяной коркой. Но Паша пробила лёд капелью горячих слез, прикосновением мягких губ, ласковых рук. Всё
Страница 36
лучилось так постепенно, так неоспоримо. Просто одно перешло в другое, и не было в этом ничего кощунственного или даже стыдного. Паша сказала потом: «Мертвым мертвое, живым живое», и была в этих нехитрых словах мудрость, какую Антон не встречал ни в каких учебниках философии.С утра началась новая, совсем новая жизнь. Вот что больше всего исцелило, не позволило пропасть. Даже прощальное письмо матери – из-за того, что случилось между Антоном и Пашей – прочиталось по-иному, не как в первый раз. «Живи и постарайся быть счастлив, а если не получится быть счастливым, всё равно живи. Умей ценить то, что жизнь тебе дает, а не тосковать по тому, что она у тебя отняла».
Вот так Антон теперь и жил.
Жизнь давала ему много, очень много.
Во-первых и в главных, осуществилось то, что он всегда подозревал: его бытие на свете оказалось уникальным, беспрецедентным – не по протоптанной тропинке, а по свежему насту, когда каждый шаг открытие. И ведь не в одиночку он шел, а с целой страной! Голова кружилась, перехватывало дыхание – и весело, и страшно, но больше весело.
Во-вторых, он вдруг стал взрослым: у него настоящая работа исторического значения, учеба в университете брошена. Помилуйте, какие лекции и семинары, когда ты мало того что в эпицентре великих событий, но еще и кормилец семьи?
В-третьих, конечно, Паша.
Смешно и жалко вспоминать, как он – еще совсем недавно – воображал себе отношения с женщиной. Антону рисовалась некая тонкая, хрупкая особа почему-то непременно в очках или пенсне, с которой они будут долго и постепенно сближаться, сверяя близость взглядов и подстраивая друг под друга струны души, а когда дойдет до первой брачной ночи (здесь фантазия делалась пугливой, спотыкающейся), всё устроится как-то само собой, ведь не они же первые, у всех получается. Но уверенности в этом все-таки не было, и еще – смех да и только – он ужасно боялся, что возвышенная подруга жизни никогда не разденется при нем донага, а он постесняется ее об этом попросить. И вообще они оба будут всё время этого стесняться.
А Паша в том, что касалось телесности, смущения не знала, и ей, кажется, вообще не приходило в голову, что в этом простом и жарком деле можно чего-то стесняться. Если ей хотелось любви, она не жеманилась, а сама прижимала к себе любовника, бесстыдно и требовательно брала его в горсть, тянула, как корову за вымя. Когда становилось хорошо, ойкала и вскрикивала, мотала пылающим лицом по подушке, разметывая волосы. В каждой комнате она поставила по чугунной печке и дров не жалела, так что в квартире все время было жарко, и в ванную – из ванной Паша часто ходила совсем голая. Фигура у нее была не похожа на то, что когда-то воображалось Антону: ничего тонкого и хрупкого, туловище похоже на сочную грушу, и груди тоже словно груши – поменьше, но все равно большие, овсяные волосы падают на спину, свисают до поясницы. Вот они какие, настоящие, а не нафантазированные женщины.
До Пантелеймоновской улицы Антон дошел очень быстро, иногда переходя на рысцу. Было жаль двадцати минут, украденных из обеденного времени Лабуденкой.
– Ну вот и я, – сказал он на пороге. – Пришлось задержаться. Здравствуй, Пашенька.
Удивительно и не верится: целых семь лет это румяное, родное лицо значило для него что-то совсем другое, и прикосновения имели совершенно иной смысл (верней, не имели смысла), и даже называл он ее иначе – на «вы». Это-то Паша исправила в самый первый день, еще до того, как их отношения судьбоносно переменились. «Нечего мне выкать, – сказала. – Татьяна Ипатьевна дурью маялась, пускай, а нам незачем».
– Не поспеем теперь. – Паша втянула его за шарф в прихожую, начала расстегивать пальто. – Выбирай. Либо есть, либо еть.
Когда были живы родители, невозможно б и вообразить, чтоб Паша произносила такие слова. Но мало ли чего еще недавно вообразить было нельзя?
– Я не голодный, – соврал Антон, и Паша, не ограничившись верхней одеждой, начала его вертеть, будто тряпичную куклу, сдергивая всё остальное.
Обратно на службу он несся тоже бегом. За опоздание хотя бы на минуту Лавкадий Васильевич писал рапорты главному редактору стенографической части Александру Блоку. Даже Аренский старался возвращаться ровно к трем: говорил, не может допустить, чтобы по его вине певец «Прекрасной дамы» оказался вынужден разбирать дьячковские кляузы.
На углу Садовой, где были навалены груды подтаявшего черного льда, Антон поскользнулся, упал боком и выронил краюху хлеба с колбасой, что сунула ему в карман распаренная Паша. Эх, досада какая! Всего пару раз успел откусить. И не подберешь – бутерброд угодил в натоптанную лепеху собачьего дерьма. После февральской стрельбы дворники взяли моду чистить тротуар только перед своими домами, а мусор и снег просто отгребали в сторону. Без полиции припугнуть бездельников стало некому, а на домовые комитеты «пролетарии метлы» плевать хотели.
Чертыхаясь. Антон отряхнулся, засеменил дальше. В кармане оставалась еще половина печатного пряника – с ровным следом от Пашин
Страница 37
х зубов. «Половинку лялечке, половинку дролечке, чтоб любил, не забывал», – сказала она. Странно это всё, удивительно, ни на что не похоже. Вот о чем думал младший стенографист, перебегая улицу под носом у грузовика с солдатами. Солдаты обложили его матерком и свистом – не по злобе, а так, со скуки. Над кабиной развевался красный флаг. Один, в криво заломленной папахе, веснушчатый, оскаленный швырнул в Антона огрызком яблока – метко, прямо в грудь. Под гогот, под зловонное фырканье выхлопа, Антон поднял кулак, погрозить, но передумал. Еще пальнет, с дурака станется. Вон у него ружье за плечом. В газетах писали, что такие же давеча тоже катались, пьяные, устроили для развлечения стрельбу и ранили прохожего, тяжело. Все-таки революция революцией, но пора бы уже в городе навести какой-то порядок. Прав Аркадий Львович: «Революция – не вседозволенность и распущенность, а сознательность и дисциплина». Но только пока всё наоборот, с каждым днем дисциплины всё меньше, а безобразий всё больше. По тем же преображенцам, что несут караул в ЧСК, видно. Еще неделю назад были молодец к молодцу, подтянутые, четкие, ходили строем, а сейчас не узнать.Часовой у дверей Комиссии стоит, грызет семечки. Узнал стенографиста – подмигнул, и только. Двое на пропускном резались в дурака, и выигравший с азартом лупил второго картами по лбу.
– Опаздываешь, стенография, – сказал победитель (его фамилия была Куцык). – Привезли уже кровососа какого-то, в колидоре сидит. Потому писать некому. Бежи, не то заругают.
Антон взволновался. Как это «некому»? Ну, Аренский, положим, с обеда опаздывает, но Дьячков-то должен быть на месте?
Записывать на допросе ему еще ни разу не доводилось. Справится ли? И, главное, расшифрует ли потом свои каракули? Ведь это не шутки.
По лестнице на второй этаж он поднимался медленно. Может, как-нибудь устроится?
Но ступеньки кончились, повернул за угол, и точно: сидит на стуле некто в шинели с отпоротыми петлицами, с опущенной седой головой, а рядом топчется конвойный со штыком, Томберг из следственно-распределительного сердито размахивает руками.
– Где все стенографисты? – кипятился Томберг. – Четвертый час! – И увидел понурого Антона. – А, Клобуков! Отправляйтесь с арестованным в четырнадцатую.
Но сзади раздались быстрые шаги, шелестнула пола бобровой шубы, и обогнал заробевшего Антона чудесный Август Николаевич.
– Явился, как лист перед травой! Готов исполнять священный долг! А юношу не троньте, у него и так дел полно!
Одновременно с облегчением (уф, пронесло!) испытал вдруг Антон чувство совсем другого рода – неприятное, зябкое, будто холодная шершавая рука схватила и сжала обнаженное сердце.
Это арестованный поднял голову и оказался человеком из прежней жизни, из самого последнего ее вечера, который, сколько ни проживи, никогда не забудешь.
Со стула с трудом поднимался болезненно бледный, сутулый, мятый Ознобишин, тайный советник. Антона он за широкой спиной Аренского не видел, но и на писателя едва взглянул. Привычно сложил руки за спиной, сгорбился, зашаркал галошами вслед за Томбергом, а солдат слегка подталкивал арестанта в спину.
Сердце сжалось не оттого, что под конвоем вели знакомого. Ничего удивительного, что один из руководителей преступного министерства находится под следствием, да и какой он, в сущности, знакомый? Но последний раз Антон видел Ознобишина, когда отец и мать были живы. Мир тогда еще не перевернулся с ног на голову, и вдруг стало до пелены в глазах жаль всего, чего не вернуть: родителей, маминого дома, канувшей жизни – пусть невзрослой и безответственной, но счастливой.
Антон смотрел на ссутуленные плечи арестанта и чувствовал странную близость к нему. Будто некая эмоциональная нить связывала его со всеми, кто по воле случая разделил с ним тот вечер, – не только с Аркадием Львовичем, Бердышевым или Бахом, которых он знал с детства, но и с этим вот Ознобишиным, и с непонятным Панкратом, который назвался двумя разными фамилиями.
А еще пришло в голову: теперь, с нежданным явлением тайного советника, замкнулся некий круг. Все эти люди, один за другим, перешагнули из той жизни в эту и обозначили здесь свои скорректированные координаты. Примус был в этой цепочке последним.
Ну, Знаменский-то никуда не исчезал, его Антон видел часто, а в последние недели каждый день.
Бердышев приходил на похороны. О чем-то расспрашивал, что-то серьезное втолковывал, но Антон был в таком состоянии, что почти ничего не понимал и только моргал ресницами. Потом обнаружил в кармане конверт, плотно набитый кредитками. Бердышевские деньги теперь у Паши и до сих пор еще не кончились.
Бах… Этот явился на сорок дней. Паша приготовила кутью, хотя Антон говорил, что никого не будет, потому что революция и кто ж вспомнит? «Не заради людей, а заради дорогих покойников, – сказала Паша. – Чтоб не маялись. А кому надо – вспомнят». После того, как она всё взяла на себя – и обмывание, и похороны, и прочие горестные хлопоты – он привык доверяться ее простой мудрости. Сели, вып
Страница 38
ли по рюмке водки – звонок. Права оказалась Паша. Иннокентий Иванович, нежная душа, не забыл, несмотря на все «марсельезы», декларации и манифестации.Бах выпил немного, но опьянел и говорил путано, витиевато. Обращался в основном к Паше, и она важно ему кивала, но после призналась, что ничего не поняла. А Иннокентий Иванович объяснял, что на него снизошло озарение и теперь ему стало понятно многое, не доступное прежде. Главная ошибка рода человеческого и вообще земного разума в том, что неправильно трактуется понятие «справедливость», возводимое в высшую ценность и заветную цель всякого общественного движения, но на самом деле путь этот обманный, от беса, потому что земной справедливости нет и быть не может. Тварный мир – не богадельня, где всякому дается поровну, из жалости. Наша здешняя жизнь – огненная кузница, где Бог кует и обжигает души, проверяя, какая треснет, а какая закалится и крепче станет. Вот в чем соль и суть, и никакое это даже не открытие, а ведомо давным-давно, еще со времен отцов-вероучителей, и даже сформулировано было почти в таких же метафорах, но люди увлекаются химерами своих смехотворных технических и социальных завоеваний, воображают себя демиургами, и сбиваются с дороги, и обрекают себя на лишние зигзаги и мучения. Вот, стало быть, как понял революцию бедный боговзыскующий Бах.
Один раз видел Антон и таинственного Панкрата Евтихьевича, да не только видел, но и до некоторой степени его себе разъяснил, так что Рогачов-Михайлов сделался менее загадочен. Было это неделю назад и, кстати сказать, там же во второй раз довелось столкнуться с Петром Кирилловичем, случайно. Интересно в тот день всё сложилось. Антон потом много про это думал.
Любимым развлечением жителей революционного Петрограда стало посещение митингов разных партий, которых расплодилось невиданное множество. Порядки всюду были разные. К кадетам, народным социалистам, социал-демократам и эсэрам Антон ходил один, Паше от долгих речей становилось скучно. Она охотно слушала анархистов, хоть и называла их «трепачами», а больше всего любила собрания женских организаций и даже записалась в «Союз горничных, нянь и кухарок».
Но самые интересные сборища происходили возле особняка балерины Кшесинской, тесно связанной с царским домом и потому сбежавшей от революции. Ее особняк явочным порядком заняли социал-демократы большевистского направления, о которых во время войны было мало что слышно, зато теперь они быстро наверстывали упущенное. С тех пор, как из швейцарской эмиграции загадочным путем, чуть ли не через враждебную Германию, вернулись вожаки этой партии, перед виллой на Большой Дворянской не прекращался шумный митинг. Антон слышал, будто там установлены какие-то особенные порядки, и вот наконец выбрался посмотреть, что за большевики такие.
Широкая улица была вся заполнена серыми шинелями. Над папахами и фуражками клубился сизый дым. «Фу, – сказала Паша, – солдатня одна. Ишь махоркой навоняли. Пойдем отседова, Антуль. Не слыхали мы ихней матерщины». И ушла, а он остался: интересно. Пока протискивался к кокетливому палаццо, поближе к размахивавшему с балкона рукой оратору, разобрался, что к чему. Здесь одни солдаты, потому что митинг устроен специально для них. Стояли они не ровной толпой, а тесными кучками – должно быть, держались своих, с кем пришли. И настроение в кучках было разное. Где-то слушали внимательно и одобрительно покрикивали, где-то болтали между собой и ржали, а в иных местах пошумливали с явным вызовом. Но всякий раз, когда откуда-нибудь раздавалось «Долой!», «Будя брехать!» или «Вильгельм тебе товарищ!», туда с разных сторон начинали подтягиваться люди – кто в шинели, кто в рабочей тужурке, все с красными повязками. Махали кулаки, взлетали, сверкая пряжками, ремни. Но драка быстро прекращалась, потому что усмирители набегали дружно, и было их много. В минуту крикунов растаскивали в стороны, и те поодиночке быстро затихали. Не наврали, выходит, про диковинные большевистские порядки. Хотя, если задуматься, может и правильно? Не хочешь слушать – уходи, не мешай другим.
– Кто выступает, не знаете? – спросил Антон у пожилого бородатого артиллериста – нарочно выбрал человека помирнее видом, кто не пошлет.
Солдат охотно ответил:
– Самый первый большевик, Ленин фамилия. Башковитый мужчина, дело говорит.
Снизу оратора было видно плоховато – высок второй этаж. Крупная лысая голова, бородка, быстро шевелящиеся губы, пронзительный голос на последнем пределе. Одет главный большевик был во что-то нереволюционное: не китель, не френч, а визитка под расстегнутым цивильным пальто, воротнички, галстук. Странно, что солдатня его вообще слушала.
Но когда Антон напряг слух, удивление прошло. Лысый кричал то, что толпе не могло не понравиться. Он втолковывал серой шинельной массе, что теперь она – хозяйка России. «Главная сила теперь вы, солдаты! – надрывался большевистский вождь. – Вы, крестьяне и рабочие с оружием в руках! И напрасно думают капиталисты и генералы, что революция закончена! Революц
Страница 39
я только начинается! Революция остается революцией до тех пор, пока она растет и крепнет! И зависит будущее революции от вас, товарищи солдаты!»Фразы были короткие, понятные самому неграмотному человеку, притом каждую свою мысль Ленин повторял по нескольку раз, немного меняя и переставляя слова. Блестящие ораторы на митингах эсэров или меньшевиков говорили совсем по-другому. Правда, и публика там слушала иная.
Низкорослый солдатик, стоявший неподалеку, воспользовался короткой паузой и тонким голосом крикнул вверх:
– Я интересуюся, а ты, гражданин, из каких будешь? Сам-то в солдатах, поди, не служивал? А коли не служил…
Сзади подлетели двое с красными повязками, влепили плюху по затылку – у сомневающегося слетела папаха, нагнулся поднять, недоспросил.
Но выступающий уже заканчивал. Еще раз крикнул, махнув сжатым кулаком, что будущее России в руках революционной армии, и попятился с балкона. Толпе речь понравилась. Свистели мало, больше одобрительно гудели и аплодировали.
Людская масса задвигалась, но не расходилась. Антон увидел, что один большой митинг разделился на десятки маленьких. В центре каждого – человек, что-то говорит: убеждает, призывает, отвечает на вопросы.
Походил от кружка к кружку – везде одно и то же. Агитаторы-большевики, всяк на свой лад, дожевывают непонятливым или колеблющимся ту же самую мысль: нельзя бросать оружие, иначе буржуи снова согнут трудящихся в бараний рог.
Кто-то положил Антону руку на плечо. Обернулся – Петр Кириллович Бердышев. В надвинутом на глаза смушковом кепи, в черном полупальто, суженные глаза недобро горят.
– Вы-то что здесь делаете? – удивился Антон.
– Изучаю врага. – Бердышев не озаботился понизить голос. Правда, в царившем вокруг гаме никто бы все равно не услышал. – Вот с кем драться придется. Скоро. Когда слюни высохнут и осядет муть, теплых никого не останется, только холодные и горячие. Мы и они. – Он качнул головой в сторону пустого балкона. – Чья возьмет, того и Россия.
– Вы про большевиков? – Антон поглядел на ближайшего из ораторов, тот тряс зажатой в руке кепкой и кричал что-то про мировую революцию.
– Не туда смотришь. – Петр Кириллович взял за плечи, развернул в другую сторону. – Полюбуйся-ка. Я так и знал, что он из этих.
По соседству толпа – человек сорок или пятьдесят – стояла плотнее и слушала внимательней. Выступавший, наверное, влез на ящик или, может, на бочку. Над папахами было видно непокрытую русую голову и шинельные плечи.
Антон чуть не вскрикнул. Панкрат!
Веселый гость, явившийся в дом Клобуковых в канун страшных событий, и здесь, среди галдящего скопления грубых, возбужденных людей, тоже держался весело. Он не ораторствовал, не размахивал руками, а просто разговаривал, вроде и негромко, но сильный, уверенный голос был слышен каждому. Казалось, не очень-то ему нужно беседовать с солдатами, ничего он от них не добивается, ни к чему не призывает. Это они задают ему вопросы, а он отвечает, коли уж им охота знать.
– Не-е, дядя, – усмехался Панкрат сивоусому саперу, – в деревню еще успеешь. Деревня, она навроде хвоста. Как из центра прикажут, так и вилять будет. На фронт надо возвращаться, вот что. Вы теперь умные, революцию вблизи видали, руками щупали. Надо товарищам рассказать, кто в окопах вшей кормит. Полковые комитеты надо под себя подгребать, а то там сейчас оборонцы засели, с ними мы войну не закончим.
И снова вылез щуплый солдатик, которого давеча раз уже двинули по затылку. И опять с тем же вопросом:
– А ты где сам служил, браток? На каких фронтах?
Панкрат ему оскалился.
– Э-э, где я только не служил. Тебе всю мою карьеру описать? Про арестантские роты в Красноводске слыхать доводилось?
Он огляделся – не откликнется ли кто.
Откликнулись, уважительно:
– Слыхали. Гиблое место, хуже каторги. Бывал, что ли?
– Восемнадцать месяцев солененького хлебал. Я много где бывал. – Панкрат махнул рукой. – Так что, про меня будем говорить или про дело?
– Про дело, про дело! – зашумели вокруг. – А может, они там на фронте сами управятся? Боязно Питер буржуям оставлять. Без нас они тут быстро всё на старое повернут!
– Рабочие не позволят. Нашего брата тут триста тыщ! – быстро повернулся в ту сторону Панкрат и снова стал говорить про солдатские комитеты, от которых сейчас всё зависит.
Кто-то крикнул, задиристо:
– На фронт агитирует, а сам тута посиживает! Хитрый!
Так же проворно Панкрат развернулся еще раз.
– Это я нынче «тута», а в ночь еду на Западный фронт, в полк. Но ты прав, товарищ. Что я вас агитирую? Кто не болтун, а за дело болеет, айда со мной в дом. Потолкуем без базара, по-серьезному.
И спрыгнул с того, на чем стоял. Исчез за папахами. Но тут же в толпе началось движение. Человек десять, а может и больше, двинулись к ограде особняка – за Панкратом.
Хотел и Антон за ними – надо хотя бы поздороваться. Панкрат ведь, наверное, про родителей даже и не знает.
Но Бердышев остановил:
– Идем отсюда, нечего тебе там делать.
Выбрались на другую сто
Страница 40
ону улицы, где свободно.– Соврал он про арестантские роты? – спросил Антон, оглядываясь на шевелящуюся серую массу. – Он кто все-таки: Рогачов или Михайлов?
– Рогачов, с нашего курса. – Петр Кириллович хмуро косился на желтые от мочи груды слежавшегося снега. – …Нет, не соврал. Он вообще не из врунов. Только у него одна правда, а у нас другая. И двум этим правдам в России вместе не жить. Про армию он тоже правду говорил. Там теперь всё решается, в частях. За кем полки пойдут, тот возьмет верх. Только скорее всего поделятся полки между ними и нами. Кровь будет, и хорошо, если средняя.
– Как это «средняя»?
– Военно-полевые суды, виселицы. Смертную казнь придется восстановить. А не то будет большая кровь, уже безо всяких судов. Захлебнемся!
Говорил Петр Кириллович так сердито, что Антон притих, испуганный не столько словами, сколько тоном. Молча дошли до моста.
– Ты-то как? – спросил Бердышев, останавливаясь. – Прости, забросил я тебя. Много всякого навалилось. Работы много.
– На фабрике?
У Петра Кирилловича складки от крыльев носа к углам рта опять стали резче.
– Нету больше фабрики. Закрыл.
– Почему?!
– Пролетарии, скоты, самоуправления захотели. Как будто плохо им жилось! Квартиры, столовые, больница, детский…, сад! – Слышать площадное ругательство из уст сдержанного Бердышева было дико. Антон вздрогнул – а Петр Кириллович и не заметил. – Валяйте, говорю, самоуправляйтесь. Без меня! Недели не прошло – станки встали. И черт с ними. Не до фабрики.
Антону хотелось, чтоб Петр Кириллович больше не говорил таким скрежещущим голосом.
– А как Зинаида Алексеевна?
По лицу Бердышева словно кто-то провел мягкой тряпкой, стер злобу.
– Я их с дочкой в Крым собираюсь отправить. Там спокойней. Особенно ввиду грядущих событий, которые неизбежны… – Внимательно, словно только что встретились, осмотрел Антона. – Нет, правда. Ты как живешь? Деньги, что я дал, закончились? Ты скажи.
– Спасибо. Во-первых, не закончились, а во-вторых, я теперь служу. В Чрезвычайной следственной комиссии, стенографистом.
Взгляд у Петра Кирилловича стал рассеянным. Он, кажется, вспомнил о делах, заспешил. На прощанье сказал:
– В следственной комиссии – это хорошо. Должен быть спрос с тех, кто страну до такого довел, со всех этих ознобишиных. Суровый спрос.
Но сурового спроса со сгорбленного седого человека, которого подталкивал в спину конвоир, требовать не хотелось. Он вдруг покачнулся, арестант в генеральской шинели, беспомощно плеснул рукой и, возможно, упал бы, если б солдат грубо не ухватил его за ворот. Антон бросился туда: что такое?
– Сейчас… Сейчас… Голова закружилась, – бормотал Ознобишин белыми губами. – Присесть… На минуту.
Его усадили на стул. Сердобольный Август Николаевич принес воды. Деловитый, вечно спешащий Томберг поглядел на обмякшую фигуру тайного советника, поморщился, перевернул страничку блокнота.
– Тогда вот что. Пойдемте-ка в одиннадцатый, сейчас доставят бывшего обер-прокурора Раева. – Это Аренскому. А солдату: – Вы, товарищ, оставайтесь с подследственным. Когда сможет идти – везите обратно в Петропавловку. Пусть его врач осмотрит.
– Ага, – лениво ответил конвойный.
– Что с вами? У моего коллеги есть сердечные капли. Принести? – спрашивал Антон, наклонившись к Ознобишину. Вспомнил имя-отчество. – Федор Кондратьевич, вы меня слышите? Это я, сын Марка Константиновича Клобукова.
У генерала в подглазьях дрогнули тени, ресницы с трудом открылись. Из-под очков на Антона смотрели слезящиеся глаза.
– А-а, – едва слышно протянул Ознобишин и слабо усмехнулся. – Узнал… Жалко, ваша матушка меня не видит… Когда прощались, она моим здоровьем интересовалась. Теперь она была бы довольна…
Антон выпрямился.
– Моя мать умерла, – сухо сказал он. – И отец тоже.
– Знаю… Скоро мы с ним свидимся. Доспорим…
Федор Кондратьевич откинулся затылком к стене, но глаз больше не закрывал.
– Вас зовут Антон, помню. На Марка похож…
– Знакомый, что ли? – встрял солдат. – Вот и ладно. Ты побудь с ним, товарищ, а я на проходную. Кум там у меня, Терёха Куцык. Может, чайку нальет. Как этот подоклемается, ты меня позови.
Взял винтовку, ушел.
Сердиться на человека в таком состоянии было невозможно. Антон снова спросил про лекарство. Но Ознобишин покачал головой:
– Капли не помогут. Это от изнеможения. Ночью не спал. Ни этой, ни прошлой. Караульные веселятся, скучно им. Каждые полчаса орут: «Превосходительства, подъем!» Строят камеру в шеренгу. Кто замешкается – прикладом.
Антон насупился. Он слышал про безобразия, что творятся в Трубецком бастионе. Многие арестованные жаловались. Караул там совсем разложился. Распускают руки, грубят, могут набросать в суп окурков или вообще оставить какую-то камеру без еды. Аркадий Львович писал жалобы коменданту Петропавловской крепости, а тот в ответ: ничего не могу поделать, они и меня не слушают.
– Не повезло вам с Петропавловкой, – посочувствовал Антон. – На Фурштатской, в бывшем Жандармском, гораздо лучше, все
Страница 41
оворят.Федор Кондратьевич скривил рот:
– Светочи справедливости… Чернышевские… На царские тюрьмы жаловались. Их бы в революционную. На недельку… – Но на язвительность сил у него не хватало. Глаза снова заволокло слезами. – Антон Маркович, голубчик, вы бы дали мне посидеть тут, в тепле. Там же еще холодно, так холодно. Мне бы хоть минут двадцать подремать…
– Конечно-конечно. Отдыхайте. Я, может быть… Вы посидите, вас здесь никто не обеспокоит.
Бедного старика было ужасно жалко. И не чужой все-таки, а из той, родительской жизни. Может, и получится для него что-нибудь сделать.
Невелика птица младший стенографист, но важна не должность, а место службы. Антон уже успел для себя открыть эту древнюю канцелярскую мудрость. Всякий сотрудник ЧСК для лиц, привлеченных к следствию и их родственников, – персона судьбоносная. За последние недели его, мальчишку, десятую спицу в колесе, бессчетное количество раз подлавливали в коридоре или на лестнице дамы с заплаканными лицами. Заискивали, униженно заглядывали в глаза, умоляюще простирали руки, пытались подкупать. Одна – жена министра! – даже встала на колени. Всем от него было что-то нужно: выяснить, выспросить, передать. Он уж и правила выработал: записок не брать, съестного тоже – лишь лекарства и, в качестве особого одолжения, фотокарточки. Что скрывать: когда миновала первая неловкость, Антону это даже стало нравиться. Всякому приятно проявлять великодушие и выслушивать слова искренней благодарности.
Но для знакомого человека можно было попытаться сделать и большее. Отчего не попробовать?
Отправился в караулку, к фельдфебелю Лабуденке.
– Отпечатал карточки? – накинулся тот.
Антон ему с важностью: не такое, мол, это простое дело. Надо пленку проявить, да хорошую бумагу достать. А еще можно красиво исполнить, на паспарту – как портрет получится. Лабуденко, как и следовало ожидать, загорелся.
– Ты уж, товарищ Клобуков, сделай в лучшем виде. За мной не пропадет.
Тут-то Антон и рассказал ему про знакомого старика-генерала, которому в Петропавловке совсем худо. Нельзя ли его как-нибудь на Фурштатскую? Ведь бывает же, что переводят. Вчера, например, не было автомобиля везти жандармского генерала с допроса в крепость, так подсадили в грузовик, что шел на Фурштатскую.
Лабуденко важно ответил:
– Ради тебя, товарищ Клобуков, я деда твоего не то что на Фурштатскую – могу и в Охранное отправить. Никто мне не указ. Запишу в журнале, что оказия случилась, а он у тебя, говоришь, хворый к тому же.
В подвале бывшего Охранного отделения на Мытнинской набережной устроили изолятор. Но камер там было только шесть, и все заняты. Попасть туда у арестованных считалось завидной долей, потому что с самого первого дня караул в бывшем логове сыска держали студенты, а это вам не солдатня.
– Разве там место освободилось?
– Ничего, – уверенно сказал фельдфебель. – Потеснятся. В обратку машина не поедет, охота им из-за одного человека туда-сюда бензин жечь. Только ты насчет портрета не подведи.
Обрадовался Антон ужасно. Поспешил назад к Ознобишину. Тот ожил. Тряс руку, благодарил со слезами на глазах. Сказал, что великодушием Антон Маркович пошел в отца. Тут уж и Антон растрогался.
На всякий случай довел старика прямо до автофургона с надписью «Д.А.Р.Г.» – эта машина, реквизированная из дворцового авторемонтного гаража, курсировала между всеми тремя следственными тюрьмами и Комиссией.
– Арестованного Ознобишина на Мытнинскую, – сказал сопровождающему Антон. – Глядите, гражданин унтер-офицер, не перепутайте.
– Когда я путал? – Унтер записал что-то в растрепанной тетради, лениво гоняя цигарку из угла в угол рта. – На Мытнинскую так на Мытнинскую.
* * *
– На Мытнинскую? В Охранное?
В первую секунду Филипп подумал – ослышался. Но поглядел на хитро-улыбчивую дядиволодину физиономию и сообразил: шутит. Захотелось ответить в масть, тоже шутейно.
– Щас. Только значок прицеплю. И удостоверению на лоб приклею.
Дядя Володя улыбаться перестал.
– Значок? – медленно повторил. – Удостоверение? Ты чего, Филька, – инвалид мозга? Дай-ка их сюда. Живенько!
Сбегал Филипп, достал из укромного места (в чуланчике, под половицей) служебную бляху и новенькое, не успевшее истрепаться удостоверение, где всё честь по чести: фотка, печать, подпись господина генерал-майора и должность – «стажер».
Картонку дядя Володя порвал на шестнадцать кусочков, чиркнул спичкой – запалил. Жетон (который так недолго довелось поносить, а предъявить во страх обывателям, отвернувши лацкан, вообще ни разу) своими толстыми сильными пальцами смял, потом еще каблуком сплющил, в непонятную лепеху, и только после этого зашвырнул через окошко на крышу сарая.
– Дура! – сказал. – Сам запалился бы – не жалко…
И хлестко смазал по щеке – чуть башка с шеи не соскочила.
– А ну, одевай чего похуже! Кепчонку, сапоги смазные и вон, что это на дровах у тебя валяется? Ватник? В самый раз будет. Живо, живо!
Потрогав горящую огнем щеку, Филипп быстро переоделся. На Мытн
Страница 42
нскую? Как на Мытнинскую? Там же теперь флаги красные и революционеры с винтовками. Он издали, с Биржевого моста, видел – ближе подходить побоялся. Страшно на Мытнинскую, и главное зачем?Но спорить с дядей Володей еще страшней. По морде в четверть силы – это пустяки. Зимой, когда Филипп объекта одного упустил, дядя Володя начальству рапорт писать не стал, сам наказал: пыром под дых, после по ушам ладонями (неделю в голове звенело), да носком штиблета по щиколке, а когда упал, еще и по копчику, по ребрам. Филипп извивался, выл, руками яйца прикрывал, а старшой бил, приговаривал: «Не позорь бригаду, не позорь! Почему упустил? Почему не взял?»
А как его было взять, когда у него «дура» в руке? Стажеру-то оружия не положено! Хотя дядя Володя, конечно, и без оружия взял бы.
Он был человек капитальный, каких на свете немного. Только таких людей и нужно слушать, только их и держаться. Это Филя сызмальства понял. У него и батя Степан Гаврилович Жуков был такой же – шагает, будто землю от себя отталкивает. Эх, батя, батя…
В глаза Филипп отца «батей» никогда не называл, только по имени и отчеству. Хотя у самого в метрике отчества никакого не было и фамилия значилась матернина, Бляхин, потому что у бати имелась своя семья, законная, но, слава богу, только дочки, а сын – Филя, единственный. Иначе, наверно, не приходил бы Степан Гаврилович к матери и раза в неделю, потому что на кой она ему нужна? Если по спальному делу, сыскал бы покраше и помоложе, он был мужчина видный: стать, рост, усы, портупея с шашкой, на фуражке герб тюремного ведомства – служил Степан Гаврилович старшим надзирателем в знаменитых «Крестах», которые именовал не иначе как гордым именем «Замок».
Жалованье у бати было хорошее. Были, как потом узнал Филя, и кроме того источники довольствия, поважнее казенного содержания: люди в «Крестах» сиживали разные, в том числе денежные, и всем что-то надо, чего по правилам не положено. Кто из надзирателей жадный и глупый, рано или поздно попадался и сгорал, но Степан Гаврилович меру знал и законы уважал – те, какие смысл имеют. А если закон глупый и обойти его невелико прегрешение, то зачем же человеку на хорошей должности от своей выгоды отказываться? Передать что-нибудь не сильно возбраняемое, свиданку устроить, продовольствие лишнее дозволить, поменять камеру сырую на теплую – мало ли возможностей, не зарываясь, свой кус ситного иметь, да с маслицем и колбаской?
Платил Степан Гаврилович мамке, чтоб не блудовала и за сыном хорошо доглядывала, по пятидесяти рублей в месяц, и ничего, на свою семью оставалось с избытком. Супруга у него чисто жила, дочки в гимназию ходили, держали Жуковы горничную и чухонку-повариху. Сам Филя там, правда, не бывал, потому что неприлично это – байстрюка в дом приводить, но знать знал, интересовался.
От своей жены батя не таился, не такой человек. Не скрывал, куда ходит со вторника на среду ночевать. Та ничего, терпела. Понимала: сын.
Во вторник с обеда мать Филю принаряжала, волосы расчесывала и мазала маслом, а если длинно отросли – стригла. Степан Гаврилович распущенности и непорядка очень не любил. Сильно мамка его боялась. От ухажеров, если появлялись, как от чумы, бегала. Потому Жуков, если что, сразу узнает.
Филя отца тоже трепетал, хотя тот никогда его пальцем не тронул. Требовал, чтоб сын учился только на «отлично» – так Филипп, пока ходил в четырехклассное, каждый урок наизусть вызубривал, слово в слово. Память у него от этого закалилась до невероятности (после на службе пригодилось).
Думал, если училище первым закончит, отдаст батя и его – ну, не в гимназию, так хоть в реальное. Выучишься на техника или даже инженера, будешь жить не в бревенчатом бараке на Лиговке, а по-господски. В детстве много мечталось о будущей прекрасной жизни.
Вышел он самым первым учеником, о чем бате с гордостью предъявил похвальную грамоту. Но Степан Гаврилович, внимательно прочитав златобуквенный документ, про дальнейшую учебу ничего не сказал, а сказал: «Ну коли ты с толком, поступай в службу. Старайся – в люди выведу».
От этих слов Филя обрадовался, про реальное жалеть и не подумал (будет мозги зубрежкой-то сушить), вообразил, будто всемогущий батя его, дурака тринадцатилетнего, враз на какую-нибудь видную должность определит.
Степан Гаврилович постановил ему идти мальчиком в трактир.
Трактир тоже назывался «Кресты» и находился аккурат напротив тюремного замка. Сюда приходили посидеть, выпить чайку и не только чайку служащие краснокирпичного заведения, чужих-посторонних здесь не привечали.
Без малого семь лет Филипп Бляхин в «Крестах» произрастал, дойдя от подметальщика в зале для рядового состава до официанта в отделении для господ классных чинов. Все им были довольны, потому что проворен, сметлив и не вороват. Предлагали даже в буфетчики – в неполные двадцать лет! Но батя не позволил. Ты мне, сказал, не за стойкой, а близ столов нужен.
Никто в трактире не знал, чей Филька сын, и говорили при нем свободно, про всякое. А Степан Гаврилович е
Страница 43
е в самом начале наказал: слушай всё, о чем болтают, и после мне рассказывай, до последней мелочи. Что ж, память на грамматических и законобожественных учебниках навострённая – запомнить нетрудно. В конце дня Филя слово в слово отцу всё передавал. И не сразу стал понимать, сколько Степану Гавриловичу пользы от этой малой услуги. Люди в Замке служили непростые, каждый задним умом крепок, на чужие прибытки завистлив, собою неочевиден. Но всё равно ведь человеки – ремень распустят, ворот расстегнут, шкаликом-другим прослабятся и болтают. У всякого есть какой-никакой приятель или сотоварищ, рука руку моет. На мальчишку, что на полу пятно затирает или крошки смахивает, внимания не обращают. Иногда похвастают чем или начнут против кого-то сговариваться – а у Фили ушки на макушке.Капитальный был ум у бати, ничего не скажешь. Далеко смотрел, верно просчитывал. От своего человечка, от крохотных его подслушек, не раз выходила Степану Гавриловичу совсем некрохотная выгода, а пару раз вовремя спознанная против него козня разваливалась от опережающего маневра.
Тюремные надзиратели публика хоть и денежная, но прижимистая. На чай давали скупо, но батя поставил сынка на свое собственное жалование и еще приплачивал, если узнавалось что-нибудь нужное. Главное же – от года к году Филя все больше чувствовал, что становится для Степана Гавриловича, повелителя его судьбы, нужным помощником. По субботам начали вдвоем обедать в ресторации, такой у них завелся обычай. Кушали в отдельном кабинете, часа по два, говорили. После третьей рюмки розовый батя любил перед сыном горизонты развернуть.
«Держава наша российская на таких, как я, стоит, – говорил. – Мы здесь костяк, соль и опора. За это нам уважение, защита и дозволение от службы прикармливаться – с совестью, конечно, стыд не теряя. Ты, Филька, не жалей, что я тебя дальше учиться не попустил. У нас шибко ученым доверия настоящего нету. Опять же в разумении прибытка. Ну был бы я, скажем, офицер или даже начальник Замка. Сидел бы на одном жалованье, дурак дураком. Да еще бумажки пиши, на репортации ездей, трясись – не проштрафиться бы, а то переведут, как нашего капитана Сусонова за арестантскую голодовку в Зерентуй, и не откажешься – служба. На кой мне ихние звездочки? Мне лычек довольно. А уважение и так есть. Мне вот его высокоблагородие особым ходатайством потомственное почетное гражданство добыл. Усердствуй, Филя, радуй папашу – и я тебя, может, узаконю. Будешь тоже потомственный почетный гражданин, и при отчестве – Степанович».
Однако, когда Филипп принял первое в своей жизни самостоятельное решение – поступить в Охранное, а там прочерк в графе не поставишь, то записался «Владимировичем». Степан Гаврилович тогда на сына крепко надулся за своевольство, на глаза показываться воспретил. Ну и ляд с ним. Сколько можно заради батиных прибылей молодой век губить в ожидании благодарностей? До морковкиного заговенья? А отчество Филипп – с позволения, конечно, – объявил в честь нового своего благодетеля.
Пухлый, улыбчивый дядя немолодых лет со сверкающей, будто костяной бильярдный шар, головою, повадился ходить в «Кресты» месяца за три до того. Был он общителен, водил знакомство с несколькими заслуженными надзирателями, но вина с ними никогда не пил, только чай, и тот слабый. Это уже потом узналось, что Владимир Иванович трезвенник и даже сыроядец. То-то он всё похрупывал репкой или чищеной луковичкой, которых в глубоких карманах у него водился неисчерпаемый запас. «Вот оно, здоровье, вот он, оберег от всех хвороб», – приговаривал. И верно, сколько Филипп его знал, дядя Володя ни разу не болел. Правда, и дух изо рта у него был тяжелый, от лука-то. Начальство ему за это пеняло, господин капитан Шелестов нос платочком прикрывал, но терпел, потому что специалиста-уличника лучше бригадного филера Слезкина не было во всем петроградском Охранном отделении.
В «Кресты», как позднее выяснилось, Владимир Иванович зачастил по одному сыскному делу, касавшемуся побега группы политических. Ну, то есть это они, анархисты, думали, что побег готовят, охранника подкупили и всё устроили, а на самом деле пристрелили их, всех троих, едва они через стену перелезли, на полном законном основании. Дядя Володя за эту операцию наградные получил и после хвастал, сколько он выгоды отечеству доставил: и опасных врагов государства обезвредил, и казне экономию обеспечил – ни на суд тратиться, ни на этапы.
Филя к непонятному завсегдатаю давно приглядывался. Любопытно: что за человек, зачем ходит, о чем с «крестовцами» шепчется? Но у дяди этого будто глаза были на лысом затылке. Как тихо ни подходи, вмиг замолкал, оборачивался, да только добродушно посмеивался.
А однажды, осенью было, вдруг подошел, когда Бляхин у себя в закутке стаканы мыл.
– Не надоело? – говорит. Голос уютный, славный такой. Взгляд мягкий.
Филя немножко перетрусил. Неужто сообразил тихоня этот, что парнишка-официант неспроста меж столов шныряет.
– О чем это вы, не пойму…
Круглолицый человек подмигнул.
– Не про
Страница 44
папаню твоего. Отцу помогать – дело доброе. Я чего спрашиваю: не надоело такому ушлому грязную посуду таскать? Присмотрелся я к тебе, Бляхин, справочки навел. И хочу сделать интересное предложение…Так и вышло, что в сентябре прошлого года оказался Филипп учеником филера и стал ходить на службу в известное всему городу здание на углу Александровского проспекта и Мытнинской набережной. Капитан Шелестов (вообще-то он титулярный советник был, но любил, чтоб по-военному называли) чутью Владимира Ивановича верил и взял парнишку почти без расспросов. Оглядел с головы до ног, кивнул: «Как есть дворняга. Ноги от таксы, лоб от мастифа, глазенки от добермана. Неприметный, жилистый. То, что надо. Беру тебя, Бляхин, с испытательным сроком. Учись пока, а там посмотрим».
Учиться ремеслу было интересно и с филипповой цепкостью нетрудно. Первым делом будущих филеров «натаскивали» – то есть обучали азам: наблюдательности и составлению словесного портрета. Тут никакой самостоятельности не дозволялось. Описывать объект наблюдения строго по порядку: пол, возраст, рост, телосложение, цвет волос, предположительная народность, наличие особых примет, во что одет. Лицо описывать сверху вниз: брюнет-шатен-блондин-рыжий-седой-лысый (а не «чернявый», «каштановый», «белобрысый», «плешивый» или еще как-то), форма носа, овал лица и прочее, и прочее. Рост и все расстояния в Охранном определялись не по старинке, а по-европейскому обычаю, на метры и сантиметры, никаких аршинов с вершками.
По всем этим премудростям Филипп шел в классе первым и был раньше всех допущен ко второму уровню, практическим занятиям. Здесь обучали маскировке, японской джиу-джитсу и французскому савату, стрельбе с обеих рук. Бляхин в первачах не ходил, но явил себя не хуже прочих. На третьем месяце был он выпущен на улицу и две недели проходил курс учебной слежки. Это когда кто-нибудь из опытных агентов изображает объект, который надобно «выявить», «выяснить» или «задержать» (тоже не просто слова, а термины – у каждого свой точный смысл). К примеру, «выявление» не предполагает никакого контакта с объектом или его окружением. Требуется просто установить, где человек проживает и что собою являет: подозрительный или так, случайно подвернулся. «Выяснение» посложнее. Это уже работа с установленным врагом, про которого нужно собрать все доступные сведения. Ну, «задержание» – понятно. До этого ответственного и опасного дела зеленых агентов вроде Филиппа, конечно, не допускали, однако все правила и приемы он был обязан знать. Мало ли что?
И когда дядя Володя взял Бляхина к себе в напарники, уже не на учебную, а на «боевую» слежку, с первого же раза пришлось одного агитатора брать в крутой залом. Ничего, не сплоховал Филя. Держал гада крепко за ноги, пока Слезкин руки вязал. Получил потом благодарность в приказе и пять рублей наградных. Вроде немного, а приятно.
Правда, вскоре – это когда Филипп во дворе за Казанской улицей человека с «браунингом» упустил – дядя Володя помимо того, что бока намял, еще и оштрафовал на ту же пятерку. Но были после еще премиальные, а за битого, известно, двух небитых дают.
Нравилась Бляхину служба – не сказать как. Во-первых, давала освобождение от военного призыва, а уж и возраст подошел. Во-вторых, очень это приятно – глядеть на телятину обывательскую и знать: я над вами досматривать поставлен, мне от власти доверие. В-третьих, обрисовывалась перед Филиппом прямая и ясная дорога, светлое будущее. Думал, выйдет из стажеров в младшие филеры, потом в старшие, а лет через пять-десять и в бригадные, как дядя Володя. Учебы Бляхин не боялся, ибо знал: чего умом не возьмешь, зубрежом одолеешь. При хорошем от начальства отношении и примерном формуляре можно экзамен на классный чин сдать. А выйдешь в чиновники, да по охранному делу – тогда и горизонт тебе не преграда.
Уверен был, что держит жар-птицу за хвост. Но подвела птица. Обожгла пальцы огненными перьями, хлестнула по харе пламенем – еле жив остался. Кто б мог вообразить, что гранитный, чугунный, бронированный, на тыщу лет сооруженный чертог с гордым именем «Империя» рухнет, будто трухлявый сарай, передавив верных своих сторожей.
Батю Степана Гавриловича, царствие небесное, лихие люди, шпана уголовная, забили железными ломами и лопатами во время разгрома «Крестов», вкупе с еще несколькими надзирателями, кто никак поверить не мог, что закону настал конец, да не сбежал вовремя. Так и не довелось Филе замириться с родителем, получить его отеческое прощение.
Он и сам-то 27 февраля, в черный день, еле ноги унес.
С утра собрали всех на Мытнинской. Ожидалось, что беспорядки, разразившиеся по всему городу, будут подавлены силой оружия, и тогда начнется у сотрудников самая работа: хватать зачинщиков и агитаторов, пока не забились по щелям.
Но заполдень стало ясно, что войска по толпе стрелять не будут, и как-то сделалось тошновато. По телефону сообщили, что окружной суд и сыскная полиция разгромлены. Гвардейская полурота, которую генерал Глобачев вызвал для охраны своего
Страница 45
важного учреждения, вела себя погано: офицеры куда-то подевались, а солдаты поглядывали на окна недобро, некоторые плевали и кулаком грозили. Начальник от греха отправил гвардейцев назад, в казарму. В пятом часу прибежали наблюдатели, поставленные со стороны Александровского. Большущая толпа раздербанила там спиртоочистительный завод и, пьяная, шумная, двинулась к Охранному.– Двери запереть! Расходиться поодиночке! – приказал тогда господин генерал.
Ну, все и кинулись – кто куда. Бляхин, когда дворами бежал, из окна откуда-то засвистели, крикнули: «Держи легавого!» Страшно было.
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Сноски
1
Я признаю, что счастье бывает и другого происхождения – дарованное счастливой любовью, этим волшебным заменителем самореализации. Если бы не свет и тепло любви, жизнь большинства людей, до самой смерти не нашедших себя, была бы невыносима. Предполагаю, впрочем, что способность любви – тоже Дар, которым обладают не все и не в равной мере. Однако я не могу углубляться в этот особый аспект, поскольку никак не являюсь в нем экспертом. Мне почему-то кажется, что в природе любви способна лучше разобраться женщина. Во всяком случае, я бы прочитал такой трактат с интересом.
2
Отдельный вопрос – как должно общество, в котором окончательно победил Свет, поступать с людьми, патологически неспособными к душевному развитию. Полагаю, их будут лечить, как сегодня лечат душевнобольных, однако оставим эту проблему для будущих счастливых времен.
3
Сейчас просто оговорюсь, а позднее изложу подробно, почему для Расцвета необходим высокий уровень нравственности – в том самом общечеловеческом своде правил, который обычно внушают нам в детстве: веди себя с людьми так, как, по твоему мнению, люди должны поступать с тобой; не предавай, не кради, не будь жестоким, не жадничай, не ври, и так далее, и так далее. Более или менее всюду эти правила считаются прописными – если, конечно, в данном обществе по стенам детских садов не развешаны портреты Гитлера, Сталина или какого-то иного лжебога, поклонение которому заменяет традиционную нравственность.
4
Если сам я, будучи русским человеком двадцатого века, дожил до нынешних лет в своей стране и уцелел, то лишь потому, что, очевидно, не обладаю этим качеством в дозе, не совместимой с выживанием. Страх за себя или близких, ответственность за семью или просто животный инстинкт неоднократно оказывались во мне сильнее чувства собственного достоинства.


