Читать онлайн “Не прощаюсь” «Борис Акунин»
- 02.02
- 0
- 0
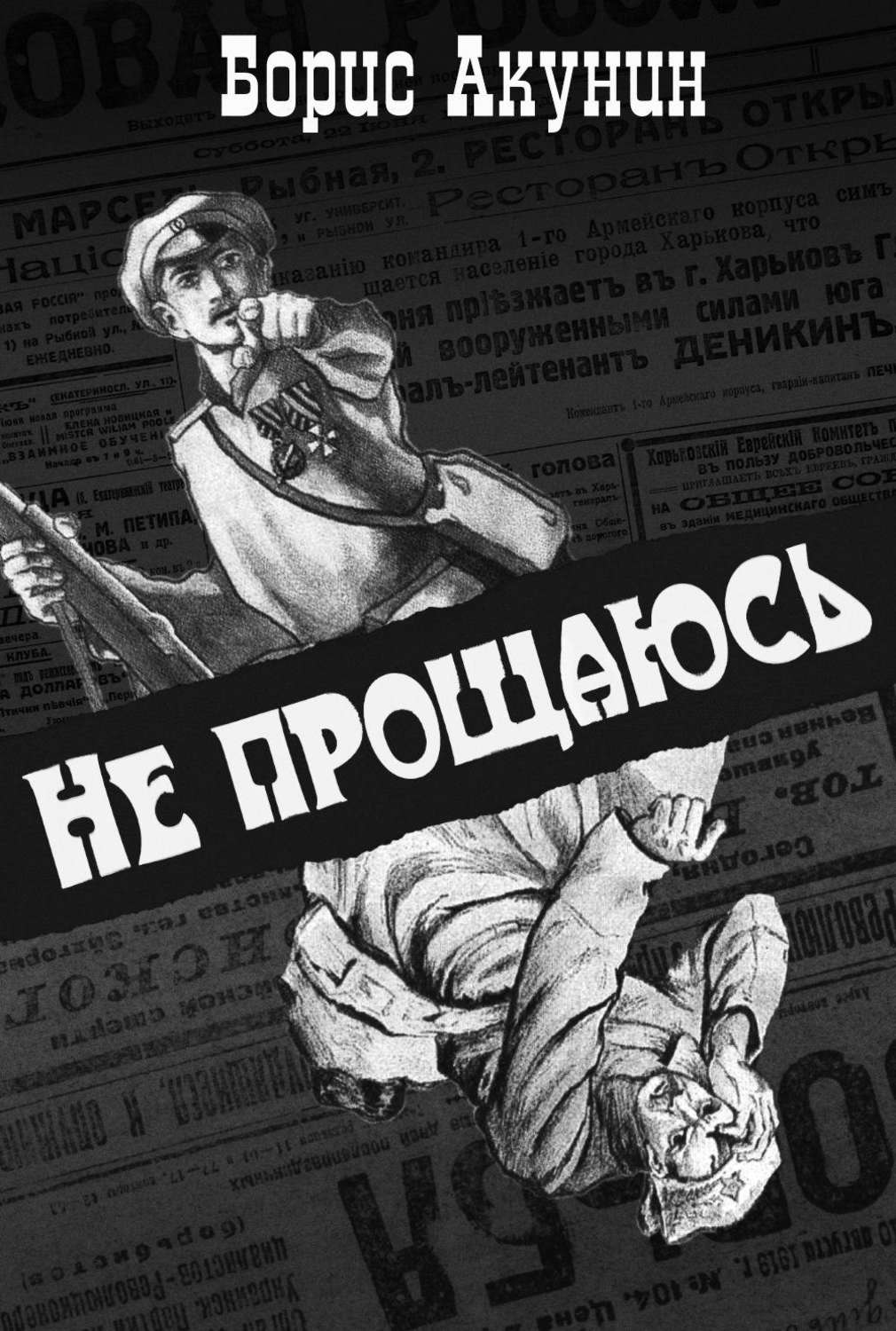
Страница 1
Не прощаюсьБорис Акунин
Приключения Эраста Фандорина #16
1918 год. Поезд Самара-Москва. Вот уже более трех лет Эраст Петрович Фандорин находится в коме. Все эти годы верный Маса заботится о своем господине. Вот и сейчас они возвращаются после очередной реабилитации у китайского целителя Чанга. Пять месяцев его сеансов дали заметный результат. Эраст Петрович округлился, порозовел и даже стал шевелить губами. Однако врачи осторожны в своих прогнозах. И даже если статскому советнику удастся выкарабкаться и на этот раз, каким он станет после пробуждения, не может сказать никто.
Если вы планируете читать книгу на iPad, то рекомендуем купитьдругую версию книги (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29188959&lfrom=201227127)
Борис Акунин
Не прощаюсь
Текст печатается в авторской редакции, орфографии и пунктуации
© B.Akunin, автор, 2018
* * *
Table-talk 1918 года
На исходе дня, уже в сумерках, вокзал вдруг пришел в движение. Разнесся слух, что будет поезд на Москву. Позавчера под Иващенковым местные остановили и ограбили «скорый», вынув рельсу. Поломка небольшая, но чинить было некому – профсоюз ремонтников митинговал.
И вдруг – поезд! Откуда-то стало известно, что московский пойдет по объездной ветке Сергиевского завода и что состав подадут на третий. Туда все и кинулись, подхватив узлы, чемоданы, детишек.
Самарский вокзал, один из лучших в империи, за год, миновавший после ее бесславной кончины, опустился, словно Барон из пьесы пролетарского писателя Горького: оборвался, ободрался, достиг дна. Топить перестали еще в декабре, и два верхних этажа в студеное зимнее время стояли пустые, туда снизу бегали справлять нужду – где придется. Вокзальные уборные не работали. На первом этаже, в залах ожидания, тоже не топили, но холодно там не было. На скамейках, на подоконниках, на буфетных стойках, просто на полу сидели и лежали люди, обогревали воздух дыханием, курением, кашлем и матерщиной.
И вот примерно половина всей этой серо-коричневой массы зашевелилась. Вторая половина, которой нужно было в другую сторону, на восток, осталась на месте.
Слух оказался верный. Скоро, пыхтя сизым паром, к платформе подкатился поезд, недлинный, но зато не теплушечный, а с настоящими пассажирскими вагонами: впереди синий, первого класса, за ним второклассный желтый и три простецких зеленых.
У входа в каждый вагон немедленно образовалась давка, и больше всего, конечно, у синего. Во имя равенства и братства билеты были все одинаковые, без мест и, само собой, без класса – езжай где сядешь. Если сядешь.
Милиционер с красной лентой на рукаве и еще одной на шапке стукнул прикладом винтовки о перрон:
– В очередь, граждане! Предъявляй билеты!
Но вместо очереди вышло по Чарльзу Дарвину – более сильные и ловкие распихали или оттерли остальных. Впереди всех оказался немолодой низенький азиат с раскосыми глазами – китаец или, может, киргиз. Революция, будто метла, взмела с российских окраин много разных людей, иных в глубинке прежде и не видывали. Всем вдруг стало плохо на своем месте, и понеслась по дорогам человеческая пыль, где-то скопляясь и закручиваясь смерчем.
– Куда с тючищем прешь? – гаркнул милиционер. Ему нравилось быть хоть маленьким, да начальником, при винтовке. Времена наступили такие, что без должности и оружия человек стал никто.
У предположительного китайца через плечо действительно был перекинут огромный длинный сверток из овчины, должно быть, нетяжелый – коротышка его слегка придерживал.
– Чего ты мне, нерусь, билет суешь? Декрет был: с большой поклажей нельзя. В порядке борьбы с мешочниками и спекулянтами.
– У меня два билета, уважаемый, – сказал азиат, кланяясь вместе со своей ношей. – Два места.
По-русски он говорил хорошо, только букву «эль» выговаривал не совсем чисто.
– Нельзя! Иди отсюда, не мешай проходу граждан! Кто следующий?
Непонятливый китаец не тронулся с места, его круглое лицо сияло улыбкой.
– Два билета – два места, уважаемый, – повторил он.
Сзади ему на плечо легла огромная рука с синим якорем. Здоровенный матросище, на голову выше толпы, сверху пробасил упрямцу:
– Ты глухой али глупо?й? Слыхал, что сказано? Уйди сам, пока тебя под вагон не скинули.
Не оборачиваясь и не переставая улыбаться, азиат ответил:
– Отвали, вша тифозная.
Свободным локтем легонько двинул назад, и матрос перестал быть таким высоким – согнулся вдвое.
А милиционеру китаец сказал:
– Вы сердитый, товарищ, потому что плохо себя чувствуете. Вам надо полежать.
– Ты доктор, что ли? – окрысился служивый. – А ну покажь документ!
– Доктор, доктор, – закивал азиат. – Вам вот здесь совсем больно.
Он ткнул милиционеру пальцем куда-то в живот. Там, кажется, в самом деле было «совсем больно» – казенный человек ойкнул, стал очень бледен, выронил винтовку, пошатнулся.
– Ему нехорошо, – объяснил китаец другим пассажирам, бережно взяв милиционера за ворот. – Он немножко полежит. Подвиньтесь, граждане… Бо
Страница 2
ьшое спасибо.С этими словами он уложил сомлевшего служителя социалистической законности на перрон и, вскинув поклажу повыше, неторопливо поднялся по ступенькам. Следом ринулись остальные.
Внутри оказалось, что позарившиеся на первый класс просчитались. Недавно здесь ехали домой с фронта уссурийские казаки, не пожелавшие расставаться со своими лошадьми, и респектабельный вагон, подобно Самарскому вокзалу, пал жертвой революции. В стены намертво впитался кислый конский запах, а перегородки, полки, столики, диванчики сгорели в костре, от которого на полу, посередине разоренного пустого пространства, осталась прожженная выбоина. Уцелело только одно крайнее купе. К нему и поспешили первые ворвавшиеся, хотя «поспешанием» назвать это было трудно. Никто не осмелился обогнать вежливого китайца с его громоздкой ношей, а он двигался солидно, без суеты. Только когда восточный человек, осмотревшись, уселся, пристроив к окну вертикально свой тюк, в отделение бросились самые боевитые. Вторым ворвался верзила-матрос, уже оправившийся от удара локтем.
– Я наверх, не возражаете? – почтительно спросил он и оккупировал козырную позицию – одну из багажных полок, где можно было разлечься во весь рост.
Следом купе атаковала шустрая молодежь. Двое вокзальных мальчишек, промышлявших тем, что занимали хорошие места, а потом уступали их за мзду, пристроились – один, белобрысый, у окна напротив китайского свертка, другой, рыжий, на второй багажной полке. Внизу можно было усесться еще троим. Рядом с белобрысым шлепнулась девка, чуть не по нос замотанная в багряный платок. От нее совсем чуть-чуть отстал стройный запыхавшийся юноша в гимназической шинели и фуражке.
– Оп-ля, села! – радостно крикнула девка. – Не сойду – хоть режьте!
Гимназист сказал:
– Vene, vidi, vici. Уф.
Последнее, восьмое место, подле азиата, досталось юркому попику, прошмыгнувшему под рукой у какого-то растяпы.
– Эй, батюшка, нехорошо, – сказал растяпа. – Я перед вами был!
Святой отец назидательно молвил, разматывая шарф крупной домашней вязки и вытягивая из него серебряный наперсный крест:
– Так и в Евангелии сказано, сын мой: «Мнози же будут перви последнии и последни первии». Нам ли, грешным, на то роптать? Хочешь, благословлю тебя троекратно трехсвятным благословением? Ну и зря.
И заерзал, устраиваясь так основательно, что сразу стало понятно: этого тоже хоть режь – не сойдет.
Купе наполнилось, однако рассадка была еще не окончательной.
– А вот кому место лежачее, богатое? А вот кому место самолучшее у окошка? – заорали мальчишки.
– Почем? – спросил обойденный попом растяпа. Услышав цену – сто рублей, – плюнул и отошел.
Место у окна выкупила щекастая баба в дубленой куртке – сторговала за семьдесят керенок и вареное яйцо. Малолетний барыга сунул добычу в шапку, исчез.
А второму, рыжему, не повезло. Какой-то бритый гражданин, в короткой бекеше и кубанке, вместо того чтоб заплатить, молча взял паренька за шиворот да выкинул за дверь.
– Ты что, контра?! – взвизгнул малолеток. – Я те перо воткну!
Но бритый нехорошо щелкнул языком и ощерил зубы, сверкнув золотой фиксой. Мальчишку сдуло.
* * *
Так в «синем» сформировалась поездная аристократия, заселившаяся в единственное купе. Кое-как, на полу и по стеночкам, разместились в основной части вагона прочие пассажиры. Без звонков, без объявлений, по-революционному, паровоз дернул, вагоны заволновались, застукались, состав поехал.
Ту-тууу! – загудели мутные мартовские сумерки.
– Береги Господь проезжающих и странствующих, – нараспев протянул священник. – Да будет нам в конце пути лучше, нежели в начале, а иначе зачем и ехать?
– Это да, – согласился гражданин с фиксой, ловко запрыгивая на верхнюю полку. – Дрянь город. Провалиться б ему – не жалко.
– Что вы такое говорите. У меня в Самаре дом, родня, – укорила баба, но мирно, без злобы.
Все были очень довольны, что так удачно устроились.
Заглянул кондуктор – оказывается, в поездах еще бывали кондукторы.
– Остальным не предлагаю, – небрежно кивнул он на вагон, – а вам, если желаете, могу выдать керосин. Восемьдесят рубликов склянка. До самой Москвы свету хватит, если зря не жечь.
Электричества, само собой, в поезде не было, да и от ламп остались одни черные дырки, но с потолка свисал керосиновый фонарь, пока не зажженный.
Цена была безумная, но ехать в потемках не хотелось, пассажиры уже и теперь едва видели друг друга.
– Скинем по десяти с носа? – сказала баба и пояснила китайцу: – Вы на двух местах сидите, с вас выйдет двадцать.
Тот поклонился, не споря, но возникли осложнения с другими обитателями купе.
– У меня денег совсем нет, – вздохнул гимназист. – И вообще спать можно в темноте, даже лучше.
Отказалась и девка:
– А мне на первой станции слезать, я с-под Безенчука. Чего это я буду за Москву платить?
Вагон первого класса
Поп прочитал стих:
Тебя от мрака защитит
Не лампы тщетное горенье,
А светлой веры крепкий щит
И сердца чисто
Страница 3
моленье.– Ну дело хозяйское, – пожал плечами кондуктор.
Но тут сверху перегнулся фиксатый, широким жестом сунул бумажку:
– Держи сотку, фуражка. Сдачи не надо. Плачу за всю приятную компанию. Знайте Яшу Черного.
Когда купе озарилось красноватым, покачивающимся светом, путешественники смогли разглядеть друг друга лучше. Начались и дорожные разговоры – специфические, революционного времени, когда люди поначалу осторожничают и своего имени не называют. (Фиксатый не считался – сомнительно было, что он Яша и тем более Черный.)
Разговорчивей всех был батюшка. Рассказал, что приходствует в Сызранском уезде, ездил к преосвященному в Самару, потому что отца благочинного нет и жалованья давно не платят, но проездил, воля Божья, впустую, только зря потратился, потому что на епархиальном подворье теперь комитет бедноты, однако ничего, проживем и без жалованья, Господь не оставит, а и отец ректор в семинарии говаривал: «Хороший поп никогда не пропадет».
Девка жила в городе прислугой у «аблаката по законам», но тот сам «затощал», потому что кому они теперь нужны, законы, других бар тоже не стало и служить негде, а дома отец-матерь и женихи с фронта вернулись.
Бабища промышляла по обменным делам. Возила из Самары по селам нужный товар, возвращалась с продуктами.
– А где товар-то? – спросил ее сомнительный Яша. – Вроде пустая едешь.
Тетка заколебалась – говорить, нет, но ей очень хотелось похвастаться. Полезла куда-то под юбку, звякнула об стол невеликим мешочком.
– Вот. Фунт иголок. В деревне бабам шить нечем. За одну иголочку по мешку муки дают.
Богатство по революционным временам было нешуточное. Все почтительно помолчали. Но Яша усомнился:
– Дать-то они дадут, а как ты столько в город провезешь? Это ж не одна подвода нужна. Лошади, телеги. И отберут муку на заставе. А могут шлепнуть как спекулянтку. За морем телушка полушка, да рупь перевоз.
Баба хитро подмигнула:
– У меня кум в желдоротделе служит. Сговорились. Я ему половину муки, а он доставит, в лучшем виде.
Тут ее зауважали еще больше.
Потом всех насмешил гимназист.
– А я тоже в деревню еду, продукты менять. У меня здесь, – похлопал себя по груди, – альбом с марками. Всю жизнь собирал, со второго класса. Колониальные. Летом предлагали шведский велосипед и духовое ружье. Отказался, и правильно сделал. Дешево не отдам.
Похохотали над ним от души – попик прикрывая рот ладонью, женщины со взвизгом, Яша во всю глотку. Особенно когда юнец захлопал глазами и пролепетал: «Я же не знаю, что везти. Я в первый раз еду».
В веселье не участвовали только матрос, который сразу после отправки натянул на голову бушлат и захрапел, да китаец – этот бесконечно пристраивал свой тюк и наверно все-таки не очень понимал по-русски.
– А вы, товарищ, по какой надобности путешествуете? – задрав голову, спросила баба у Черного и толкнула соседку в бок, благо сверху было не видно.
– Я по жизненной стихии путешественник, – ответил обитатель возвышенного места. – Наблюдаю жизнь.
– Знаем мы таких наблюдателей, ты за вещичками приглядывай, – шепнула девке спекулянтка и убрала драгоценный мешочек обратно под юбку.
Дошла очередь и до азиата, на которого с самого начала поглядывали с любопытством, но после оказии с милиционером немножко опасались.
– Вы, гражданин китаец, верно, мануфактуру на обмен везете? – спросила неугомонная тетка. – Если ситец – на него всегда спрос. А если ваш китайский шелк, это места надо знать. Могу подсказать.
– Нет, – коротко ответил тот, зачем-то разматывая верхнюю часть свертка.
– Что, извиняюсь, «нет»? – снова впиявилась баба, не дождавшись продолжения.
– Я не китаец. Я японец. И это не мануфактура.
Он откинул край овчины, раздвинул байковую ткань, и в прорехе открылось белое лицо с белыми волосами и аккуратными черными усиками. Оно было неподвижно, веки скорбно сомкнуты.
– Покойник! – пискнула девка, от испуга сжавшись на сиденье. Поп перекрестился, Яша Черный сказал жеребячье слово, а баба так заорала, что проснулся и вскинулся матрос, но ничего не понял – ему с полки было не видно.
– Это не покойник, это мой господин. Он спит, – строго сказал японец, протирая лоб своего странного спутника платочком.
Гимназист восхищенно присвистнул:
– Ничего себе. Прямо лорд Рутвен!
* * *
Кто такой лорд Рутвен, Маса знал. Кюкэцуки из старого английского романа. Кюкэцуки – это существо из потустороннего мира. Днем спит, ночью сосет человеческую кровь.
Мальчик и не знал, насколько близка к истине его догадка. Господин действительно спал. И действительно пообедал сегодня человеческой кровью.
Последняя порция питательного раствора по рецепту профессора Киричевского вчера закончилась, и во всей Самаре не нашлось ни капли основного ингредиента, трескового жира. Поэтому Маса напоил господина своей кровью, подмешав в нее немного муки.
Лорд Рутвен
Самый первый профессор, еще в проклятом городе Баку, сказал: «У раненого сохранился глотательный рефлекс, это значит,
Страница 4
что сразу он не умрет. Проживет еще месяц или два. Если это можно назвать жизнью». Сказано было в июле четырнадцатого, а сейчас март восемнадцатого, и господин все еще жив. Если это можно назвать жизнью.Пуля прошла навылет через правую верхнюю часть черепа. От смерти господина спасло только то, что револьвер был небольшого калибра. Убийце это оружие подарила женщина, которая любила господина. Маса никак не мог понять, что это было: милосердие кармы или ее злая насмешка. Может быть, лучше тот акунин воспользовался бы своим обычным сорок пятым и господин умер бы сразу, а не провалился в черную дыру, откуда его теперь не вытащить.
– Тут всё поразительно, – сказал светило нейрохирургии Киричевский уже в московской клинике, месяцы спустя. – Господин Фандорин не умирает, но и не живет. К счастью, современная наука мало что знает про устройство мозга.
– Почему «к счастью»? – спросил тогда Маса.
И сэнсэй, мудрый человек, ответил:
– Потому что когда нет твердого знания, остается надежда на чудо. Про мозг известно, что он живет по каким-то собственным законам и умеет самопроизвольно дублировать функциональные каналы. Вместо разрушенных могут образоваться новые, обходные. Больной, кажется, был человеком феноменальной мозговой и моторной активности? Такие люди чаще выходят из комы. – Правда, после обнадеживающих слов сэнсэй еще прибавил: – Но даже в этом случае в результате такой тяжелой травмы правой фронтальной доли очнувшийся обычно становится идиотом.
Методическое пособие доктора Ченга
Потом было еще много профессоров. Все они говорили разное. Прошлой осенью, когда из-за революции стало совсем плохо с лекарствами, Маса спросил себя: не хватит ли мучить бедное тело, в котором не осталось души? Одно сжатие пальцев, и всё кончится. Господин наверняка сам потребовал бы этого, если б мог говорить. С другой стороны, если б он мог говорить, зачем сжимать пальцы?
В наигорший момент Масиных терзаний Кири-сэнсэй (так японец про себя для краткости называл профессора Киричевского) рассказал, что в волжском городе Самаре есть некий китайский целитель господин Чанг, добивающийся невероятных результатов с помощью прижиганий и втыкания неких хитрых иголок. Коллега из тамошнего военного госпиталя написал профессору, что китаец вернул в сознание раненого, которому шрапнельная пуля пробила череп еще под Перемышлем, в пятнадцатом году. Правда, все интеллектуальные функции нарушились, но человек сам ходит, ест, реагирует на простые команды.
Маса попробовал представить господина, реагирующего на простые команды, – не получилось. Тот никогда ничьим командам не подчинялся. И все же японец засобирался в дорогу. Тогда поезда еще ходили, и даже можно было заказать до вокзала автокарету с санитарами.
За пять месяцев, проведенных в Самаре, страна с невероятной скоростью и какой-то забубенной лихостью развалилась, будто тысячу лет только и ждала повода рассыпаться в прах. Масе революция не нравилась – по очень простой причине: содержать инвалида в такие времена стало поначалу тяжело, а потом совсем невозможно. Деньги стремительно обесценивались, все товары и продукты, не говоря уж о лекарствах, пропали, ни в чем не стало порядка. Обидней всего, что сеансы Чанга-сэнсэя давали результат. Лорд Рутвен? Видел бы мальчишка господина до Самары. Тощий был, бледный, египетская мумия. А от иголок и горящих трав китайского знахаря округлился, порозовел – прямо Момотаро, персиковый мальчик из сказки. Иногда стал шевелить губами, будто с кем-то разговаривает. Еще немножко – может, и проснулся бы. Но Чанг-сэнсэй сказал, что больше в России не останется, потому что здесь все сошли с ума. Сказал, что в Китае тоже революция, но лучше жить среди своих сумасшедших, чем среди чужих. И отправился в Нанкин. Не насильно же его держать?
– Это называется «кома», – объяснил японец попутчикам. – Греческое слово. Значит «глубокий-глубокий сон». Господин глубоко-глубоко спит уже четвертый год. Проспал войну, проспал революцию.
– Счастливый, – вздохнула тетка. – Я тоже залегла бы в четырнадцатом годе, попросила бы: «Разбудите, люди добрые, когда жизнь опять наладится». Плохо ли? Все друг дружку бьют, режут, грабят, а он знай похрапывает.
– Дура! – рявкнул Маса на глупую женщину. – Если бы господин в четырнадцатом году не уснул глубоко-глубоко, ничего бы этого не было – ни войны, ни революции. Он не допустил бы.
От окрика баба заморгала, да и остальные притихли.
«Переглядываются. Решили, что у меня атама набекрень», – сказал себе Маса и вздохнул. Он уже так давно не пользовался родным языком, что начал думать по-русски, но иногда мысленно вставлял японские слова, чтобы совсем не забыть ниппон-го.
– Ничего. Вот господин проснется, тогда посмотрим, – угрожающе проговорил японец, обращаясь не к соседям, а в пространство.
– На Бога православного уповать надо, молиться, – посоветовал священник. – Во времена многих ужасов бывает много и чудес. Как говорится: «Богу помолился – глядь, и исцелился».
– Молился. И
Страница 5
православному Богу, и неправославному, всяким богам молился.– Знать, неправильно. Это я вам как профессионал говорю, – оживился поп. – Об облегчении душевноскорбных надо не напрямую к Господу взывать, надо через Богородицу, утешительницу всех скорбящих. Вот я сейчас вам продемонстрирую. – Поднял очи к закопченному потолку и проникновенно, со слезным дрожанием, пропел: – Матушка пречестная заступница, замолви словечко перед всеблагим Сыном твоим об исцелении безумного… как его по имени?
– Эраст.
– Безумного Эраста. Воззри на него с выси, верни ему разум.
– Аминь, – сказал Маса, вздохнув. Подумал немного – перекрестился. Хуже не будет.
С выси взирал матрос.
– Тьфу! В работу бы вас, попов-бездельников. Только врете да жрете.
– Поесть – это неплохо бы, – нисколько не обиделся божий человек. – Повечеряем, братья и сестры?
И все стали ужинать, каждый свое. Гимназист развернул бутерброд с котлетой, девка – краюху посыпанного солью хлеба, матрос ядрено распахся селедкой, Яша Черный у себя наверху грыз что-то хрусткое.
Обстоятельней и обильней всех питалась баба. Она достала вареных яиц, с десяток картошек и скоро завалила полстола скорлупой и очистками.
– Не грех скоромное трескать, в великий-то пост? – спросила она с набитым ртом у священника – тот лакомился ломтиками аккуратно порезанной колбасы.
– В путешествии дозволяется кушать и скоромное, если нет постного, – ответствовал батюшка, – но ежели ты, дочь моя, угостишь корнеплодами, я от грехоядения свиной плоти воздержусь.
Тетка только хмыкнула, а Маса вздохнул. У него за пазухой тоже лежал кусок свиной плоти, полуфунтовый шмат сала, но следовало растянуть еду до Москвы. Хээ, сказал бы кто-нибудь Масахиро Сибате во времена далекой иокогамской юности, что он будет питаться лежалым жиром давно издохшей свиньи, – вырвало бы. Однако в дороге сало удобней всего. Много этого мерзкого кусо не съешь, потому что противно, а сил прибавляет. Надо ведь будет еще раз или даже два покормить господина кровью.
– Кажись, Иващенково промахнули, – сообщила спекулянтка, глядя в заоконную тьмищу, где не светилось ни единого огонька. – Докатить бы до Безенчука, после него уже не шалят.
– Кто шалит-то? – спросил матрос, тоже пялясь в черноту.
– Леший их знает. Положат на рельсы бревно – значит, стоп-машина. Ну и ходят по вагонам, грабят.
– А если не останавливаться? Подумаешь – бревно. Хрясь его колесами, и полундра.
– Начнут палить по паровозу. Хорошо если из ружей, а могут из пулемета, – сказал гимназист, нервно ежась. – На прошлой неделе под Сызранью таким манером машиниста убили, и поезд на повороте с рельсов полетел. Многие убились, покалечились. Нельзя не остановиться.
Попик перекрестился:
– Озверели ироды. Человечья жизнь у них в копейку.
Деревня взялась за оружие
Знал про местную проблему и наблюдатель-путешественник:
– Мужики это местные. Солдатня с фронта вернулась. Понимаю их. Чем горбатить, проще с винтарем на дороге промышлять. Зверье сиволапое. – Он свесился вниз и оскалился на пассажирок: – Они у баб с девками первым делом под юбками шарят. Знают, где ваша сестра хабар прячет.
Девка не испугалась, прыснула:
– Мне тама прятать нечего окромя девичьего.
Яша смачно причмокнул, гимназист поглядел на соседку искоса, матрос загоготал, а вот баба забеспокоилась.
Снова вытащила заветный сверток с иглами, повертела головой, куда бы спрятать, – придумала. Положила на столик, присыпала картофельными очистками.
– Если не дай бог что – не выдавайте.
– Блаженны нищие духом, им прятать нечего, – назидательно молвил батюшка. – Потому и не устрашатся, егда зубовный скрежет, земной тряс и на дороге ужасы…
Накаркал.
Вдруг заскрежетали железные зубы, мир затрясся, вагон подскочил, мотнулась и погасла лампа. Поезд, резко тормозя, сбросил ход. Пассажиров, ехавших спиной вперед, вжало в стену. Тех, что сидели и лежали лицом по ходу, скинуло с мест. Масу ударило грудью о столик, матроса швырнуло с багажной полки, попик впечатался в девку.
Тьма наполнилась истошными криками, женским визгом, детским плачем. Но вот поезд замер. Снаружи один за другим ударили два гулких выстрела. Тогда в вагонах сделалось очень тихо.
– Гоп-стоп, приехали, – нервно хохотнул Яша Черный, спрыгивая вниз. – Пожалте бриться. Всякое в жизни повидал, но грабить меня еще не грабили.
* * *
Удивительней всего была, пожалуй, тишина. За стенкой в вагоне захныкал было младенец, но сразу затих. Молчали и в купе. Упавшие вернулись на свои места, залез обратно и разухабистый Яша.
В темноте было ничего не видно, ничего не слышно. Будто в вагоне ни души.
Но вот чиркнула спичка, вспыхнул огонек, осветивший хмурую и недовольную физиономию с узкими глазами.
Это японец, водрузивший обратно на диван своего жуткого спутника, поднялся зажечь погасшую лампу.
Когда стало светло, выяснилось, что пассажиры хоть и помалкивали, но смирно не сидели. Вели себя все странно.
Гимназист снял шинель, вывернул наизнанку и
Страница 6
нова надел. Снаружи она выглядела вполне прилично, но оказалась без подкладки и теперь превратилась в какое-то серое рубище.Девка, согнувшись, возила рукой по грязному полу, потом этой же ладонью стала тереть лицо.
Матрос быстро и размашисто крестился, бескозырку держал в руке, шевелил губами.
Священник же, кому, казалось бы, молиться пристало больше, запихивал за пазуху серебряный крест. Взамен вытащил другой, такого же размера, но железный, и пристроил посередине груди.
Яша Черный сидел у себя наверху по-турецки и что-то засовывал за ободранную обшивку потолка.
– Лопатник ховаю, – подмигнул он, заметив взгляд японца. – Будут шмонать – я пустой.
Удивительней всех вела себя тетка. Она задрала юбку и пихала под розовое исподнее большую воблу.
Эта операция заинтриговала Масу больше всего.
– Зачем вы суете в подштанники сушеную рыбу, гражданка?
– Слыхали? Они под юбку лазюют. Ничего не найдут – обругают или прибьют. А тут какая-нито добыча. Авось отстанут, – объяснила баба, оправляясь. – Вы-то чего сидите? Неужто спрятать нечего?
Снаружи из вагона донесся грубый голос. Проревел, сопровождая каждую фразу матерной бранью:
– С местов не вставать….! Тихо сидеть….! Кто…., забазланит – рожу раскровяню. Кто рыпнется…., дулю в лоб!
Гимназист шепотом сказал:
– Высунусь. Посмотрю.
Приоткрыл дверь, осторожно выглянул.
– Ну! Чего там? – через минуту дернула его за полу девка. – Сколько их?
– Один, – сообщил мальчик, садясь на место. – С обрезом. Отбирает мелкое – часы, кольца. Кладет в мешок.
– Только один? – с любопытством спросил Маса. – И отдают?
– Не отдай, попробуй, – прогудел сверху матрос. – У насыпи, поди, другие, с телегами.
– Вряд ли. – Японец задумчиво почесал круглый подбородок. – Тогда он брал бы не только мелкое. Может быть, разбойник совсем один. Положил бревно, остановил паровоз и теперь ходит, грабит.
– А хоть бы и один. Значит, совсем зверюга. – У матроса клацали зубы. – Шмальнет с обреза – и со святыми упокой.
Маса философски подумал: волк тоже залезает в овчарню один и выбирает, какую овцу утащить, а остальные стоят смирно, ждут и даже не блеют. Воистину всякий человек сам решает, кто он в жизни: овца, волк или человек.
– А-а-а… – тихо, как бы неуверенно, вскрикнула вдруг спекулянтка. Шлепнула рукой по столику и завопила уже громко, во всю глотку: – А-а-а-а!!! Пропали! Иголки пропали! Караул! Обокрали!
Куча очисток, должно быть, от резкого торможения, рассыпалась, и мешочка под нею не было.
– На полу посмотрите, – сказал поп. – Что уж сразу о греховном помышлять?
Баба плюхнулась на четвереньки, зашарила под столом.
– Нету! Господи, нету! Пропала я! Всю имуществу на иголки поменяла! Шкап с зеркалом, две перины, картохи пять пудов, кольцо золотое, швейную машину! Еще у кума тыщу рублей взяла! Пропасть мне теперь! Уууу!
Завыла.
– Ай-я-яй, – посочувствовал батюшка. – Особенно с кумом вашим нехорошо. Если он начальником служит, значит, обладает возможностями. Не надо бы его обижать. Одно посоветую, дочь моя. Молиться надо.
А Черный оскалился:
– Ловко сработано. Аплодирую. Кто это из вас такой ушлый? Я-то наверху был, с полки не падал.
– Врешь, фармазонщик! – кинул ему матрос. – Ты тоже спрыгнул. Спрашивается, зачем?
– Ой, матушки, ой, беда! Ой, пропала я! – верещала внизу тетка, всё елозя по полу. – Хоть домой не вертайся!
Дверь с грохотом откинулась.
– Кто тут глотку дерет?! Сказано было: не базланить!
Все застыли.
В проеме, подсвеченный красноватым светом керосина, в обрамлении черноты, стоял страшный человек. Был он в солдатской шинели и городской шапке меховым пирожком, видно, только что с кого-то снятой. Лицо бородатое, буграми, глаза дикие, в руке обрезанная с дула и приклада трехлинейка. Через плечо у разбойника был мешок.
Обрез трехлинейки
– Эй ты, на полу! Села и заткнулась!
Баба плюхнулась на место. Она продолжала рыдать, но беззвучно. Слезы лились потоком.
– Купейные, – с удовлетворением произнес разбойник. – Значится, есть что взять. Сами отдадите или грохнуть кого для острастки? У тебя что? – начал он с гимназиста.
– Вот, – показал тот альбомчик. – Марки. Надеюсь поменять на еду. Папу на войне убили. Мы с мамой вдвоем остались. Голодаем. Но вы берите, товарищ. Хорошие марки. Даже Мадагаскар есть.
Грабитель только выматерился. Вырвал альбом, стукнул им паренька по голове, швырнул на пол.
– У тебя? – нагнулся он к девке.
– Дяденька, я с Калиновки, – подняла она чумазое лицо. – Десять верст от Безенчука. Савела-кузнеца дочерь. Может, знаете?
– Слышал. А чё грязная такая?
Сразу успокоившись, девка сверкнула зубами.
– Подумала, вдруг чужие кто, вот рожу и перемазала. Не снасильничали бы. Своих чего бояться.
Лихому человеку не понравилось, что его можно не бояться. Он вскинул обрез, выпалил в потолок. Сверху посыпалась труха. Девка завизжала. Заголосили и в вагоне.
– Клади в мешок всё ценное! Ну! После кажного обыщу. Если что найду – убью!
Страница 7
И передернул затвор.
После этого грабеж пошел как по маслу. Первым свесился матрос, отдал часы. Поп, недолго поколебавшись, вытащил серебряный крест. Даже Яша, косясь на дуло, выругался и сдернул с пальца два перстня.
– А ты, курица? – замахнулся бородатый на плачущую тетку.
Та задрала юбку, шмякнула на стол воблу.
– На, забирай последнее, подавись. Нет у меня ничего больше, без тебя ограбили…
Ткнулась головой в стол, затрясла плечами.
Оставался только японец. Сначала он рассматривал бандита с интересом, но скоро заскучал и даже зевнул.
– У тебя что есть, узкий глаз? Знаю я вашего брата. Пошарить, и золотишко сыщется.
– Есть, – кивнул Маса и снова зевнул. Его клонило в сон. – Золотые десятки.
Грабитель удивился. Наставил обрез.
– Давай! Куда запрятал?
– Вот сюда. – Маса похлопал себя по груди. Там, в шелковой сумочке, лежали последние восемь червонцев. – Бери сам, круглый глаз.
Он еще не решил, сломать ли невежливому нарадзумоно запястье, когда протянет руку, или только вывихнуть.
Но нарадзумоно его удивил – сразу, безо всяких проволочек, выстрелил, метя в лоб. Видно, у железнодорожных разбойников человеческая жизнь и правда шла в копейку.
От пули, Маса, конечно, уклонился. Еще не распрямившись, выбросил руку, вырвал оружие, сделал ногой подсечку, и плохой человек бухнулся на колени.
Поскольку пуля ударила совсем близко от господина, Маса обернулся – и обмер.
Эраст Петрович сидел всё так же неподвижно, но на виске остался длинный ожог от пролетевшей вплотную пули.
В глазах у Масы помутилось от ярости.
– Буккоросу дзоооо!!![1 - Убью! (яп.)] – взревел он, отшвырнув обрез.
Схватил негодяя, потревожившего мирный сон господина, за горло. Другую руку, сжатую в кулак, занес, намереваясь проломить подлому акуто его поганую переносицу.
Тихий, скрипучий голос недовольно произнес:
– Соннани сакэбу на[2 - Не ори так (яп.).].
Не веря ушам, Маса оглянулся.
Глаза господина были приоткрыты.
– Дамарэ. Атама га итаи[3 - Заткнись. Голова болит (яп.).], – сказал Эраст Петрович, щурясь.
* * *
Первый и самый важный долг в жизни человека – благодарность. Она прежде всего.
Поэтому сначала Маса поставил на ноги грабителя, сунул ему кошелек с червонцами и поклонился.
– Спасибо тебе, посланец доброй кармы… Куда ты? А твое ружье?
Последние слова были сказаны уже в спину улепетывающему разбойнику.
Ну и Буцу? с ним.
Исполнив долг, Маса рванулся к господину. Тот еще что-то говорил, но слов было не разобрать, потому что, едва исчез бандит, снова заревела спекулянтка.
– Тише, дура! – прошипел японец, коротко обернувшись.
Баба послушно заплакала тише.
– Черт, какой яркий свет, – пожаловался господин, хотя свет был совсем тусклый. – Ничего не вижу, слепит. Но я слышу, что плачет женщина.
Говорил он хрипло, будто у него заржавело горло. Маса осторожно потрогал пальцем след от пули. Пустяк, даже волдыря не будет. Может быть, после всех сеансов Чанга-сэнсэя не хватало только одного последнего прижигания?
– Я хочу знать, почему плачет женщина, – тихо, но твердо сказал господин.
– Это единственное, что вы хотите знать? – осторожно спросил японец, вспомнив предупреждение профессора Кири про нарушение интеллектуальных функций.
Фандорин поморгал, слегка тряхнул головой.
– Нет. У меня много вопросов. Всё какое-то… странное. Но сначала нужно помочь даме. У нее, должно быть, случилось несчастье.
– Жизня моя пропала, – громко и глухо сказала баба, вдруг подняв голову. – Я удавлюсь. Право слово, удавлюсь.
– Эраст Петрович Фандорин, – представился ей господин. – Прошу прощения, что сижу. Почему-то не могу подняться. И вижу вас неотчетливо… Что с вами случилось, сударыня?
– «Сударыня», – хмыкнул наверху матрос. – Сударыни с сударями нынче все удрапали. Кто поспел…
Маса молча показал кулак, и невежа заткнулся. Слава богу, господин, кажется, не расслышал этих слов, иначе у него возникли бы вопросы, отвечать на которые было пока рано.
– Обокрали меня, – пожаловалась тетка новому человеку. – Кто-то из этих вот иуд. – Показала рукой вокруг.
В ночи что-то запыхтело, вагон качнулся, поехал.
– Мы в поезде. В купе, – сказал господин и опять встряхнулся. – Но в купе не бывает столько людей.
Он стал считать, разговаривая сам с собой:
– Мы двое. Дама, которую обокрали. Смуглая барышня. Двое мужчин почему-то на багажных полках. Священник. И… – Вгляделся в противоположный угол, где филателист надевал вновь перевернутую шинель. – …И исключенный гимназист.
– Откуда вы взяли, что исключенный? – удивился тот.
– У вас петлицы без пуговиц и фуражка без герба.
– Мозгами поехал. Кто сейчас с орлами ходит? – прошептал подросток. Маса и ему показал кулак.
– Господин, вы перестали заикаться, – сказал он, покашливая. От волнения сжималось горло и ныло сердце.
– Это потому что я сплю. Во сне я никогда не заикаюсь, – объяснил Фандорин. – Впрочем, неважно. Дамам надо помогать и во сне. Что у вас похищено, сударыня?
– Иголк
Страница 8
! Почти целый фунт! В мешочке! Ууу!С полки свесился матрос:
– Нечего было зявиться. Реви теперь.
– Иголки. Вместо багажа матрос, – без удивления произнес Эраст Петрович. – Какая чушь. – И терпеливо обратился к тетке, должно быть, считая и ее сонным видением. – Мне часто ночью снятся какие-то нелепые преступления, которые я непременно должен раскрыть. И я их всегда раскрываю. Вы ведь перестанете так громко плакать, если иголки найдутся? Они какие, железные?
– А какие еще, – прогнусавила баба, всхлипывая. – Золотые, что ли?
– Не знаю. Во сне всё бывает. Кто-нибудь из купе выходил?
– Неа… – Спекулянтка встрепенулась. – Ваша правда, товарищ! Их всех обыскать надо! Пускай ваш азият всех общупает!
– Товарищ? – Господин посмотрел на Масу, будто ожидая и от него какой-нибудь фантазийной выходки. Маса тоже глядел на господина во все глаза. И вдруг с силой ущипнул себя за толстую щеку: испугался, что, может, это он уснул и пробуждение Фандорина ему примерещилось?
Эраст Петрович сам себе кивнул, словно соглашаясь подчиняться правилам причудливого сновидения.
– Обыскивать мы никого не будем. У нас нет на это полномочий от судебной инстанции. К тому же среди присутствующих барышня. Но против дистанционного досмотра никто, надеюсь, возражать не будет?
– Против чего? – подозрительно спросил матрос.
Яша сказал:
– Шмонать себя не дам ни по-какому. Без мандата – хрен.
Маса встал, внимательно посмотрел на того и на другого. Возражений больше не было.
– Все согласны, господин.
– Прекрасно. Надеюсь, мой ферроаттрактор при тебе?
– Конечно. Он всегда со мной, – ответил Маса без колебаний, но сильно забеспокоился. Он понятия не имел, что такое ферро…трактор, но подрывать надежду умственно зыбкого человека было никак нельзя.
– Что это – ферроаттрактор? – спросил гимназист.
– Очень сильный магнит. Он бывает нужен в расследованиях, когда на месте преступления требуется найти какие-то мелкие металлические предметы – например, пистолетную гильзу. Сейчас мой ассистент проведет ферроаттрактором по одежде всех присутствующих, не касаясь тела. Если кто-то спрятал на себе 400 грамм железных иголок, они зазвенят. Маса, покажи, как это работает. Начни с меня, чтобы никому не было обидно.
Взгляд господина, устремленный на японца, был несколько мутен, но тверд. Маса немного подумал и торжественно извлек из-за пазухи брусок размером с два спичечных коробка, бережно завернутый в тряпицу.
Поднял, показал всем. Стал водить рукой вокруг Фандорина. Вдруг рука словно сама собой дернулась и прилипла к нагрудному карману куртки, видневшейся через раздвинутое покрывало. Японец вынул оттуда металлическую расческу, которой ежедневно восстанавливал фандоринский пробор.
– Теперь ты.
У Масы брусок сначала присосался к груди – японец вытащил и показал всем, но прежде всего священнику, нательный крестик, объяснив:
– Я в крещении раб божий Масаил.
Бритва М.Сибаты (на правах рекламы)
Потом чуткий прибор потянулся вниз, к сапогу. Под голенищем оказалась бритва. Ею Маса по утрам брил господина, а один раз, недавно, на ночной улице, зарезал глупого налетчика.
– Наука, – уважительно молвил батюшка. – Ну-ка, а меня испытайте.
– Ой, что это? – внезапно воскликнул гимназист. – Вот, смотрите.
Он присел на корточки, утонув в тени – свет лампы так далеко вниз не доставал.
– Что это вы башмаком прикрываете? Отодвиньте ногу, – сказал гимназист девке и выпрямился. В руке у него был мешочек с иголками.
– Мой! Мой! – завопила тетка, вскакивая. – Целы, целы родименькие! Уууу!
Примечательно, что рыдать она не перестала, просто плач из горестного стал радостным. Сразу же, еще не отрадовавшись, она влепила соседке затрещину.
– Паскуда! Воровка! Зенки бесстыжие! Рядом сидела, прикидывалась!
– Я не брала! Ей же боженьки! Не брала я, тетечка!
И тоже заплакала.
– Стыдно, молодой человек, – морщась от шума, обратился Фандорин к гимназисту. – У вас повадки профессионального вора. Мало того, что украли, так еще сваливаете на невинную барышню. Если б это был не сон, я бы сдал вас на ближайшей остановке станционному городовому.
– Го…городовому? – пролепетал юнец. – Станционному? Господи, ничего бы не пожалел, только бы вернулись городовые. Господи, учиться в гимназии, не трястись в этих жутких поездах, не лазить по карманам…
И тоже заплакал.
Как же я сам не сообразил, укорил себя Маса. Это профессиональный доробо, промышляет по поездам. Говорил, что едет первый раз, а сам знал, где и как на дороге грабят. Говорил, голодает, а у самого белый хлеб с котлетой.
Но всё это было совершенно неважно.
– Какое счастье! – всхлипнул Маса, утирая слезы и пряча шмат сала обратно в карман. – Господин, вы не идиот!
Теперь рыдала половина купе – и счастливая тетка, и «невинная барышня», и вор, и Маса. Прочувствованно сопел и попик, порываясь что-то сказать, но на него никто не смотрел.
– Благодарю за лестное мнение, – пробормотал Эраст Петрович. – Иголки нашлись, но ти
Страница 9
е не стало. Мне надоел этот сон. Пусть следующий будет лучше…И закрыл глаза, и обмяк, и сонно задышал – но не так, как прежде, еле слышно, а глубоко и размеренно.
– Вот вы сомневались, – наконец пробился через шум батюшка, – а я вам говорил: во времена многих ужасов много и чудес. Только надо знать, кому и о чем молиться. Об облегчении душевноскорбных – только Заступнице. Будете еще маловерствовать, сын мой?
Черная правда
Ку арэба раку ари
Господин проспал ужасно долго – трое с половиной суток, и Масе они дались мучительней предыдущих трех с половиной лет. Потому что самый страшный из слоев дзигоку не огненный и не ледяной, а тот, куда после смерти попадают предатели: каждый день там начинается с надежды и заканчивается ее крахом. Маса никого никогда не предавал, но хлебнул этой муки полной мерой. То у спящего начинали подрагивать веки – и не открывались, то вдруг шевелились бледные губы – и ничего не произносили, то по белому лицу пробегала легкая судорога – и исчезала, как в мертвый штиль обманная рябь по воде.
Обморок стал похож на глубокий сон, и все же это был обморок. Когда спящий проснется и проснется ли вообще, не знал даже Кири-сэнсэй. «Не провоцируйте пробуждение, просто будьте рядом и ждите, – сказал он. И со вздохом добавил: – К сожалению, я дожидаться с вами не могу. Завтра я уезжаю. Нет больше сил оставаться в этой психлечебнице, которую захватили пациенты буйного отделения». И покинул больную страну Россию, подобно китайцу Чангу.
Доставив господина домой, в Москву, японец настроился ждать столько времени, сколько понадобится. В момент, когда спящий проснется, он не должен оказаться один.
Чтобы не отлучаться ни на минуту, Маса приготовил рисовые колобки, бутылку разбавленной водки и даже ночной горшок, но ни есть, ни пить, ни тем более справлять нужду не мог – так волновался.
Не ел, не пил, не спал, и что же? На третью ночь дух не совладал с бесстыжей плотью-карада, и та подвела, незаметно утащила в тяжелый, беспросветный сон.
Проснулся Маса от тычка в колено. Захлопал глазами, зажмурился. Комната была залита весенним солнцем.
Хриплый голос сказал:
– Эй, ты не заболел? Ужасно выглядишь. Будто постарел на несколько лет.
Господин щурился, моргал, тер ресницы вялой рукой.
– Ах, прости! – сказал он. – Ты же ранен!..Но раз ты можешь сидеть, значит, тебе лучше?
– Мне лучше. Мне намного лучше, – прошептал Маса, крепко прижимая ладонь к груди, чтобы сердце не выпрыгнуло наружу.
Он не кричал, а шептал, потому что Кири-сэнсэй запретил травмировать психику проснувшегося бурным проявлением чувств и велел вести себя так, будто это самое обычное пробуждение. «Излучайте побольше оптимизма, не сообщайте больному ничего печального, – наставлял профессор. – Иначе защитная реакция мозга может погрузить его в новую блокаду».
– А я, кажется, расхворался. Тело будто не свое. Еле руками шевелю. И со зрением что-то… – Эраст Петрович попробовал приподняться на подушке – не получилось. – Мне снились ужасно странные сны. Последний просто идиотский. Будто мы с тобой едем в купе, где людей, как сельдей в бочке, а там… Неважно, чушь.
Фандорин всё щурился.
– Мы дома? Не в Баку? Как это возможно? Погоди… – Нахмурился. Медленно, очень медленно ощупал затылок. – В черном, черном городе… В меня же стреляли. Удар. Я помню… Так я не спал, я был без сознания? И долго я провалялся? Что за это время произошло?
Лишь теперь Маса поверил, что господин действительно вернулся.
– Вы провалялись три года, восемь месяцев и двадцать восемь дней. Что за это время произошло? – плавно перешел японец ко второму вопросу, помня про ослабленную психику. – Все государства воюют, как княжества в эпоху Сэнгоку-дзидай. Люди убивают друг друга миллионами. Российской империи больше не существует, она развалилась. Но солнце по-прежнему восходит, после зимы наступила весна, и женщины всё так же красивы, – закончил он бодро, на оптимистической ноте.
– Все-таки сплю, – пробормотал Эраст Петрович. – И сон опять идиотский.
Он закрыл глаза, но Маса спать ему больше не дал – ущипнул за ухо.
– Сейчас очень многим кажется, что они видят идиотский сон. Но это не идиотский сон, это идиотская гэндзицу – реальность. Приготовьтесь долго слушать, господин. Теперь я всё изложу подробно. Только помните слова Мудрого: «Что бы ни стряслось в суетном мире, благородный муж не теряет хладнокровия».
Потом он говорил без остановки час или больше, и сохранить хладнокровие у господина не получилось. В прежние времена, когда Маса что-то рассказывал, Эраст Петрович по ходу повествования задавал уточняющие вопросы. Сейчас же он лишь повторял:
– Что?
– Что-о?!
– Что-о-о?!!
И каждое следующее «что» было длиннее и тонкоголосее предыдущего, так что вскоре Фандорин дошел до фальцета, умолк и слушал уже безмолвно, лишь иногда встряхивал головой.
Сколько Маса ни старался подбавить оптимизма, рассказ получился грустнее «Сказания о доме Тайра». Дойдя до событий самых последних
Страница 10
ней (как новое красное правительство капитулировало перед немцами и сбежало из Петрограда в Москву), японец виновато развел руками:– …В том, что вы с 1914 года лежали бревном, а мир за это время развалился, наверное, есть и какие-то положительные стороны, ибо природа сущего двуедина, но, прошу прощения, я не вижу в этой черноте Инь даже слабого просвета Ян.
Фандорин молчал минуту или даже две. Потом вздохнул.
– Ну отчего же? Польза все-таки есть. Ты наконец выучился хорошо объясняться по-русски. Это раз. А я благодаря ранению, кажется, избавился от заикания. Это два. Ку арэба раку ари.
– Вы правы, господин! Нет худа без добра, – со слезами воскликнул Маса, все-таки не совладав с бурными чувствами. – А самое главное, что мы вместе и что вы снова стали собой! Это перевешивает всё остальное!
Ки играет в прятки
К сожалению, японец ошибался. Очнувшись, Эраст Петрович не стал собой. От былого Фандорина мало что осталось. Тело слишком долго существовало в отрыве от духа, все связи между ними разрушились. Оно не желало повиноваться воле.
В первые дни Фандорин очень плохо видел, будто его поразила сильная близорукость. С этой напастью он справился при помощи терпеливых упражнений. Помогла шкатулка, доставшаяся еще от отца, хранителя и собирателя фамильных реликвий, многие из которых непонятно что означали – Эраст Петрович никогда не интересовался историей своего рода. В коробке хранился рыжий локон, завернутый в пожелтевшую бумажку (на ней надпись «Laura 1500»). Что за Лаура, непонятно, но Фандорин обрадовался, когда смог разобрать буквы и цифры. Было там и несколько кипсейков из прошлого самого Эраста Петровича. Он с грустью разглядывал медальон с портретом первой жены, которую почти не помнил, потому что их брак продлился всего несколько часов, да и было это в другом веке, в другом мире, с другим Фандориным. Но зрение постепенно обострилось, милое юное личико ожило, ответило взглядом на взгляд. Зазвучал тихий голос, он спросил: «Счастливо ли ты прожил жизнь, милый? Вспоминаешь ли хоть иногда твою Лизу?»
Он-то, голос, больше всего и помог. Эраст Петрович смотрел суженными глазами в пространство, и из густеющего воздуха проступали картины прошлого, медленно обретая резкость. Вместе со зрением памяти усиливалось и обычное зрение. На второй день выздоравливающий уже видел гравюры на стенах, на третий смог читать.
С мышцами было хуже. Тело будто застыло на леднике и никак не желало оттаивать. Каждое движение давалось с замедлением, только после повторной команды мозга – и очень неохотно. «Возьми чашку», – приказывал мозг руке, а та будто колебалась – выполнять команду или нет. Потом все же брала, но норовила расплескать воду.
В горизонтальном направлении и вниз руки двигались еще сносно, но поднести чашку ко рту было задачей не из простых. Раньше Фандорин с меньшим усилием поднимал четырехпудовую гирю.
С ногами была совсем беда. Им приходилось давать приказ раза по три. В первый раз Эраст Петрович самостоятельно пересек гостиную (двадцать шагов) за две с лишним минуты. Потом этот нехитрый маршрут он проделал множество раз и добился некоторого убыстрения, но всякий раз, достигнув противоположной стены, садился и отдыхал.
Рассуждая теоретически, за годы абсолютной бездвижности в организме должна была накопиться чертова уйма жизненной энергии Ки, которую Фандорин раньше умел распределять поровну между частями тела или концентрировать где угодно: в кулаке для удара, в ногах для бега или прыжка, в чреслах для любви и так далее.
В первое же утро Эраст Петрович с трудом уселся в позу дзадзэн, закрыл глаза, привел дух в состояние Великого Покоя и устроил тотальный допрос поочередно всем отсекам организма: не там ли прячется Ки?
Тут явился Маса с клизмой, поклонился и объявил:
– Девять часов, господин. Время делать дайбэн.
И Великий Покой сразу улетучился, вытесненный Великой Яростью. Даже хорошо, что энергия Ки не отыскалась, иначе верный вассал получил бы увечья средней тяжести.
Энергия Ки
Но пропавшая жизненная сила не нашлась ни на второй, ни на третий, ни на десятый день. Наверное, она забралась в такие глубины естества, что оттуда ее было уже никогда не вытащить.
Тем не менее Эраст Петрович днями напролет делал упражнения, а Маса сочувственно наблюдал, рассказывая о событиях во внешнем мире.
События были совершенно невероятные.
Войска кайзера заняли почти всю Европу от Пскова до подступов к Парижу, причем стреляли по последнему из гигантской жюль-верновской пушки, плевавшейся стокилограммовыми снарядами на сто с лишним километров. «Помните церковь Сен-Жерве в квартале Марэ? – говорил Маса. – Мы еще с вами в девяносто девятом арестовали там „Маньяка с улицы Белых плащей“. Немецкая дайхо расшибла ее прямым попаданием, поубивала всех молящихся». Вообразить такое было трудно, но не труднее, чем высадку в Мурманске английских солдат, которые собирались воевать на русской территории с германцами и финнами. Почему-то Фандорина больше всего удив
Страница 11
ло, что финны, мирные молочники-огородники, теперь тоже воюют.– А в проклятом городе Баку опять резня, – сообщал японец. – Раньше тюрки резали армян, теперь армяне режут тюрков. Надеюсь, зарежут и того тюрка, до которого мне теперь не добраться. А на Кубани белые добровольцы воюют с красными добровольцами. А Украина теперь отдельная страна, и там тоже все воюют.
Бывали и местные, московские новости, не менее удивительные.
В соседних домах «уплотняют» всех «бывших», говорил он, но дворничиха Луша-сан, очень красивая и добрая женщина, теперь «председатель домкома» и в память о былой любви Масу в обиду не дает.
Продукты давно уже «дают по карточкам». Раньше давали больше, теперь совсем мало, только немножко черного хлеба. Но из-за еды беспокоиться нечего, потому что Маса нашел отличного покупателя для своей коллекции эротических картинок сюнга и статуэток нэцкэ. Очень важный человек, Райкомпродснаб-сан, платит золотыми десятками, а на них можно купить всё на «черном рынке».
По Мясницкой улице прошел «красный ход» – это как крестный ход, но с красными знаменами и вместо молитв все поют революционные песни.
В Зоологическом саду был митинг «Свобода животным!». На волю из клеток выпустили всех «угнетенных зверей» – таких, кто никого не ест. По улицам бегали олени, яки, ламы, а у одной беременной оку-сан произошли преждевременные роды прямо на тротуаре, потому что ей встретился на улице Пресня южноамериканский армадилл.
Эрасту Петровичу не терпелось увидеть все эти чудеса собственными глазами.
10 апреля он наконец выполнил долго не дававшуюся задачу – преодолеть гостиную за полминуты и, довольно утерев пот, объявил: «Всё, завтра выхожу в город».
Маса был к этому готов. Он соорудил средство передвижения: кресло на каучуковых колесиках.
– Ису-самоход к вашим услугам, господин, но для начала я просто покатаю вас по переулку.
– Нет, – твердо сказал Фандорин. – Это совсем иной мир и совсем иной я. Нам нужно привыкать друг к другу. Первые шаги я сделаю без няньки. Завтра до полудня буду делать упражнения и тренироваться. Потом отправлюсь на экскурсию. Один.
Японец тяжело вздохнул, но спорить не стал. Он знал, что так будет.
– Чтобы ису поехал, надо двигать вот этим рычагом взад-вперед. Взад-вперед вы ведь можете? Захотите остановиться – жмите ногой вот на эту подставку. Только не резко, иначе можете опрокинуться…
– Не бойся. Пока не научусь, не поеду.
– Я боюсь не этого, господин. – Маса угрюмо потер полуседой ежик волос. – Москва стала опасным городом. Вы его не узнаете. Вы будете чувствовать себя, будто Урасима Таро. А это плохое чувство. Да и сказка плохо кончается.
Рыбак Урасима из сказки провел несколько дней на дне океана, в гостях у морского царя, а когда вернулся домой, оказалось, что на земле прошло несколько веков, и он не узнал родной деревни.
– Урасиме не следовало совать нос в запретную шкатулку, – беспечно ответил Фандорин, улыбаясь при мысли о том, что завтра мир расширится за пределы опостылевшей квартиры. – Я ни во что соваться не буду. Просто немножко покатаюсь.
Удивительное путешествие
Назавтра, 11 апреля, в третьем часу пополудни, укутанный в теплое пальто со смушковым воротником, но с непокрытой головой, которую следовало держать в холоде, Эраст Петрович выкатился за ворота. Маса проводил его церемонным поклоном, прочитал оберегательную сутру и трижды перекрестил.
Качая рычаг, Фандорин медленно поехал по своему Малому Успенскому (он же Сверчков) переулку до Большого Успенского, с любопытством глядя вокруг.
Он чувствовал себя не Урасимой Таро, а скорее героем уэллсовского романа «Когда спящий проснется». Мистер Грэхем очнулся после летаргии в 2100 году и не узнал старой доброй Англии, потому что в ней не осталось ничего старого, ничего доброго и очень мало английского.
Чинный, барский квартал, прежде такой опрятный, выметенный, ухоженный, выглядел как морской берег после цунами, когда волна уже отхлынула, но усеяла сушу грязью, мусором, обломками и трупами мелких животных. Прямо на тротуаре две крысы спокойно, по-хозяйски обгладывали мертвую кошку. Отличная аллегория того, что случилось с Россией, подумал Эраст Петрович: кто был ничем, тот стал всем.
Вдоль Чистопрудного бульвара дребезжал чудо-трамвай, похожий на блюдо с виноградом – так густо свисали с площадки, ступенек и даже буферов пассажиры.
Вразвалку протопал взвод солдат, винтовки у всех почему-то прикладами кверху, а говорили они между собой не по-русски. Кажется, латыши? Странно.
С бульвара Фандорин свернул на Покровку, поперек которой висели красные транспаранты с белыми размашистыми буквами. Напротив Успенской церкви, прекрасного образца нарышкинского барокко, покачивалось на ветру полотнище с предостережением: «Осторожно, товарищ! Попы тебя обманывают!»
Начало свобжентруда
Следующий лозунг Эраст Петрович расшифровать не смог, хоть долго его изучал: «I съезду Свобжентруда ревпривет от мужпролетариата!»
Ледяной ветер трепал седые волос
Страница 12
путешественника во времени, на них падали мелкие снежинки, серебрились, но не таяли. Температура была не выше нуля. С трудом подняв руку, Фандорин плотнее затянул белое кашне.Из-за того что кресло остановилось и перестало поскрипывать, сделались слышны обрывки разговоров проходивших мимо людей.
Дама в парижском пальто и грубом деревенском платке сказала спутнику:
– Душенька, умоляю, сколько раз повторять: не говори на улице «господин хороший». Ты нас погубишь! Только «гражданин хороший».
Просеменили две старушки, одна другой азартно кричала:
– Айда в Синдикат ломовиков! Ордера на галоши дают!
Некто, по внешности явный уголовник, жаловался приятелю:
– Мне, старому каторжанину, семь квадратов жилплощади?! Контра он, и больше ничего!
Нужен переводчик, подумал Эраст Петрович. Качнул рычаг, заскрипел по щербатому тротуару дальше.
Знакомый ресторан Петрова поменял старое название на новое: «Кто работает, тот ест». На двери загадочное объявление: «Обслуживаются только члены по предъявлении». Внизу от руки приписано: «В заклад за ложки и миски драных шапок не берем». Должно быть, эти самые члены воруют ложки с мисками, поэтому при входе у них требуют головные уборы, сдедуктировал Фандорин. Однако надпись на магазине мужского платья «Париж и Вена» расшифровке не поддалась: «Весь товар меновой. Деньги не предлагать!» Как это: в магазине – и не предлагать денег?
Во время долгого беспамятства Эрасту Петровичу являлось множество причудливых видений, иногда очень выпуклых и ярких. Внезапно возникло подозрение, что всё это тоже галлюцинация: немосковская Москва, трамвай с виноградинами-людьми, абсурдные вывески.
Черт его знает, всё может быть. Но еще великий Мондзаэмон писал: «Жизнь – только грустный сон, увиденный во сне». А кроме того, благородный муж даже во сне не изменяет своим правилам – что если сон окажется реальностью?
Вдруг прохожие стали быстро переходить на противоположную сторону улицы. Какой-то дядька оглянулся на калеку в кресле.
– Папаша, давай откачу. Чека идет!
Навстречу шли трое в красных повязках: один с большой деревянной кобурой, двое с винтовками через плечо. Чека? А, да. Маса рассказывал. «ЧК» – это какая-то аббревиатура. Недавно учрежденная красногвардейская Охранка. Проводят обыски, аресты, реквизиции. Маса говорил, что красногвардейская полиция еще ничего, по крайней мере приходит с ордером. А есть еще какие-то «черногвардейцы», так те грабят безо всяких ордеров и, бывает, прямо на улице, среди бела дня.
– Нет-нет, благодарю, – сухо поблагодарил доброго самарянина Эраст Петрович, фраппированный «папашей». К тому же любопытно было поглядеть на представителей новой власти. Она называлась «советской» – в каком смысле, Маса не объяснил.
– Ага! Инвалид должон знать, – сказал, подходя, человек с «маузером». – На таком стульчаке далёко от дому не отъедешь. Отец, подскажи-ка, который тут дом бывший Аксельрода? У нас, вишь, постановление. – Помахал бумагой.
Сговорились они, что ли, вконец разозлился Фандорин.
– У меня, почтеннейший, детей нет.
Хотел отъехать, но красный жандарм схватился за спинку кресла.
– Ты с кем разговариваешь? А ну предъяви документ!
– Ладно тебе, Корытов. Связался с безногим, – сказал другой. – Ну его. Пойдем вон у бабки спросим.
«Маузер» обругал Эраста Петровича по матери, но руку убрал. Чекаисты, или как их там, пошли со своим постановлением дальше, а Фандорин глядел им вслед, качая головой. У него не хватало воображения представить сотрудника Охранного отделения или Жандармского корпуса матерящимися в публичном месте.
Если красногвардейцы «еще ничего», то каковы же «черногвардейцы»?
Герои Плевны
Ответа на этот вопрос долго ждать не пришлось. Пять минут спустя, доехав на своем транспортном средстве до Маросейки, исследователь революционной Москвы увидел впереди кучку людей и услышал весьма неприятный звук, никогда не оставлявший Фандорина равнодушным: захлебывающийся женский плач. Проследовать мимо, не разобравшись в причинах столь интенсивной демонстрации горя, было немыслимо.
Эраст Петрович притормозил, но из сидячего положения ему было видно только спины.
– Мишенька, отдайте моего Мишеньку! – надрывалась какая-то женщина, вернее, пожилая дама, поскольку голос был надтреснутый, а выговор бонтонный: «аддайцэ».
На случай высадки Маса снабдил инвалида тростью. Опершись на нее, Фандорин поднялся, протиснулся вперед.
На земле, обхватив голову, сидел старик в сизой шинели с алыми отворотами и брюках с генеральскими лампасами, но при этом не в сапогах и даже не в штиблетах, а в заплатанных войлочных опорках. Он зажимал рукой голову, меж пальцев обильно струилась кровь. Рядом переступала с ноги на ногу старушка в некогда приличном, но сильно обветшавшем пальто. Она была маленькая, сухонькая, в седых букольках, и всё повторяла, беспомощно озираясь: «Отдайте, отдайте Мишеньку! Отдайте! Ну пожалуйста! Где мой Мишенька?» Дама была явно не в себе. Похожа на девочку, у которой отобрали куклу, тол
Страница 13
ко на очень старую девочку, подумал Фандорин морщась. Зрелище было тягостное.Он прислушался к разговорам окружающих, пытаясь понять, что случилось.
В толпе говорили:
– Дедок сам виноват. Во-первых, нечего форсить генеральскими лампасами, не старый режим. Во-вторых, коли реквизиция – стой смирно. Могли за сопротивление и на месте шлепнуть. У «черных» это запросто.
– Мишу этого забрали, что ли? Чем генерала-то жахнули? – допытывались те, кто подошел позже. Им отвечали, картина постепенно прояснилась.
Пожилую пару остановил какой-то черногвардеец-анархист. Увидел у женщины медальон – золотой, с алмазами – и отнял. Генерал пробовал отобрать обратно – получил рукояткой пистолета по голове.
Тем временем ушибленный поднялся с земли, обнял плачущую даму, но она его отталкивала, всё крича про Мишеньку. Старик был высокий, породистый, с седой бородкой, которая когда-то, видимо, гордо именовалась «эспаньолкой», а теперь деклассировала в козлиную или даже в «мочалку».
– Господа, ради бога! – сказал бывший генерал. – Догоните его, упросите! Это единственное, что у Поли оставалось. Я бы сам, но голова кружится, ноги не идут.
– Алмазный медальон? Отдадут они, жди. Скажи спасибо, что не грохнули, – отвечали ему.
– Не в медальоне дело! Пусть оставит себе! Там фотография нашего покойного сына и его детский локон.
– Вишь, сынишка у них помер, – пожалела старика какая-то сердобольная баба. – Мужчина, догнали бы вы лиходея этого? На что ему карточка?
– Ага, вот ты и догоняй. Мне жить не надоело, – отмахнулся тот, к кому она обращалась.
Все уже расходились, удовлетворив свое любопытство. Событие само по себе, видимо, было будничное.
Скоро около злосчастной пары остался один Эраст Петрович.
– Посадите даму, – сказал он. – Она в полуобморочном состоянии.
– Да-да, благодарю.
Генерал бережно подвел жену к креслу, посадил, и та вдруг ослабела, обмякла. Немножко повсхлипывала, пошевелила губами, затихла. Сомлела или уснула.
– Что же вы так неосторожно? – спросил Фандорин. – В генеральской шинели, с лампасами. И золотой медальон на виду.
– Шинель и лампасы от нищеты. Больше нечего надеть. – Старик всё вытирал кровь платком, но она не останавливалась. – Весь остальной гардероб продали или выменяли на продукты, а это никто не берет. Что до медальона… Понимаете, Миша был наш единственный сын, очень поздний, мы уже не надеялись. У Аполлинарии Львовны в нем вся жизнь заключалась. Мишу убили под Танненбергом.
– Где?
– В Восточной Пруссии, где вся гвардия полегла, помните? Миша только-только вышел в полк, и в первом же бою… С тех пор Поля стала немножко… больше чем немножко нездорова. – Генерал деликатно коснулся пальцем виска. – Вставила в медальон последнюю Мишину фотографию, положила его детский локон. Днем сидит, смотрит на снимок, улыбается, перебирает волосы – и тихая. Ночью не расстается, зажимает в кулаке. И давеча на улице тоже стала рассматривать. Я после обеда всегда вывожу ее подышать воздухом. А тут этот, черный. Увидел и вцепился…
Старик спохватился:
– Прошу извинить, я не назвался. Александр Ксенофонтович Чернышев. Бывший профессор Николаевской инженерной академии. Вышел в отставку еще до войны, по возрасту.
Представился и Фандорин. Раскланялись.
– Позвольте взглянуть на вашу рану, граф, – сказал Эраст Петрович. – Вы ведь из графов Чернышевых?
– Имею такое несчастье. – Александр Ксенофонтович грустно усмехнулся, отнимая от раны платок. – Потому и лишен хлебных карточек. Райсовет постановил титулованной аристократии не выдавать. Бывшим генералам, впрочем, тоже не полагается, так что я, как это теперь называется, «двойной лишенец». Вроде незаконнорожденного еврея, если по-старорежимному.
Фандорин осмотрел место ушиба.
– Удар сильный, но слава богу по касательной. Тут сосуды близко, потому такое кровотечение. Рассечена кожа и, конечно, сотрясение, но обойдется без швов. Только продезинфицировать и наложить повязку. Считайте, повезло.
Генерал сухо рассмеялся:
– Повезло? Знаете, в тринадцатом, когда я вышел на пенсию, мы с Полей решили отметить это событие кругосветным путешествием. В Сан-Франциско опоздали на шанхайский пароход, а он ночью на рейде наткнулся на грузовое судно и затонул со всеми пассажирами. Мы были прямо-таки поражены нашим везением. А потом я не раз думал: эх, какое было бы счастье, если б мы тогда утонули в своей чудесной каюте первого класса и ничего бы последующего не увидели…
Сестры милосердия в более милосердные времена – под Плевной
– Послушайте, я специалист по везению. Повезло – это когда тебе достался лучший из наличествующих вариантов. Из наличествующих, понимаете? – строго ответил Фандорин, мысленно прибавив: например, когда в упор стреляют в затылок и ты после этого всего лишь остаешься калекой. – Если бы «черный гвардеец», или как его, проломил вам голову, ваша супруга осталась бы на свете одна. И что с ней было бы?
– Она теперь все равно умрет. – Чернышев поежился, глядя на спящую. – Без Миш
Страница 14
ной фотокарточки Поля не может. Не будет есть, пить. Выплачет все слезы и умрет. Но вы правы. Я должен быть с нею. Знаете, мы сорок пять лет вместе, и никогда не расставались. Она даже на Турецкую войну за мной поехала. Была под Плевной в лазарете, сестрой милосердия.– Под Плевной?
Фандорин попытался представить, как выглядели Чернышевы сорок лет назад, у стен турецкой твердыни. Он – молодой инженер, она – хрупкая, но, должно быть, решительная молоденькая дама.
– Вы тоже там были? – Александр Ксенофонтович посмотрел на него точно таким же взглядом – взглядом товарища по давно ушедшему времени. – Господи, зачем мы до всего этого дожили?
– Вы ведь Господа спрашиваете? – пожал плечами Фандорин. – Пусть Он и отвечает… Давайте отвезем графиню домой. Вы, я полагаю, недалеко живете?
– Совсем близко, в Петроверигском переулке. Но вы сами еле ходите. Вам, должно быть, трудно стоять? Что у вас со здоровьем?
– Последствия ранения. Ничего. Если за что-нибудь держаться, могу идти.
Они вдвоем взялись за спинку кресла – Чернышев тоже стоял на ногах нетвердо. Покатили.
– Правы вы и в том, что Аполлинарии Львовне в некотором роде повезло с безумием, – тихо сказал генерал. – В своем ступоре она безмятежна и, в сущности, даже счастлива. Во всяком случае, была. Но теперь начнется ад…
Поймав сочувственный взгляд прохожего, Фандорин вдруг словно увидел их троицу со стороны: два немощных старика медленно везут куда-то полумертвую старушку. Так оно и есть.
А старушка вдруг ожила. И сразу беспокойно зашарила по груди рукой.
– Мишенька, где Мишенька?
– Дома. Мы забыли его дома, – быстро ответил Чернышев и шепнул: – Я не вынесу, если она снова начнет кричать на всю улицу.
– Домой, домой! – потребовала графиня.
Генерал содрогнулся, пробормотал:
– Господи, что будет…
Только теперь Эраст Петрович сказал то, что следовало сказать с самого начала:
– Я верну вам фотографию и локон. – Поправился: – Попытаюсь вернуть.
– Да как же? Вы в каталке. И где теперь искать этого негодяя?
– Каковы его приметы?
Александр Ксенофонтович растерянно стал перечислять:
– Высокий. В черном плаще с пелериной. Широкополая шляпа, тоже черная – знаете, «Гарибальди». Черная борода. Одно слово – анархист.
– Найду. С такой внешностью – найду.
У генерала увлажнились глаза.
– Я знаю, вы говорите это из жалости. Чтобы утешить. Но все равно спасибо. А если… если каким-то чудом получится… – Во взгляде вдруг блеснула надежда. – Не провожайте нас дальше. Я доведу Полю до дома. А вы поспешите! Наш адрес – Петроверигский переулок, бывший дом графа Чернышева. Домком выделил нам дворницкую. Вставай, Поленька, освободи кресло для господина Фандорина.
Эраст Петрович спорить не стал. Нужно было торопиться, пока черный Гарибальди не растворился в миллионном городе.
– Да как же вы его теперь найдете? Прошло не меньше двадцати минут! Бросьте, это невозможно! – крикнул генерал вслед катящемуся прочь креслу.
Ответа не последовало.
На самом деле выйти на след «Гарибальди» было очень возможно и даже совсем нетрудно. Субъект приметный, да еще и опасный. На такого не просто обращают внимание, а провожают взглядами.
Идти по следу было делом привычным и небесприятным.
Эраст Петрович доехал до Лубянского проезда – свидетели говорили, что грабитель направился в ту сторону.
На перекрестке, между Политехническим музеем и памятником героям Плевны, очень кстати дежурил постовой с винтовкой и красной повязкой – советский городовой. Низшие полицейские чины, как бы они ни назывались и какой бы власти ни служили, устроены одинаково: грозны с теми, кто перед ними заискивает, и искательны с тем, кто разговаривает грозно.
Памятник героям Плевны
Поэтому на мостовую Фандорин не выехал, а повелительно крикнул:
– Эй, гражданин, поди-ка сюда.
И нетерпеливо поманил пальцем.
Городовой подошел, но глядел недовольно. Инвалид в белом шарфе был не похож на начальство.
– Да шевелись ты! – поторопил его Эраст Петрович. – Как у тебя с наблюдательностью?
– Чего? – опасливо спросил парень. Он был в кепке и черном полупальто, похож на мастерового. – Вы кто, товарищ?
– Я – Фандорин, – со значением сказал Эраст Петрович. – Ты получил приказ проявлять ревбдительность?
Тот сразу подтянулся.
– Получил. А чего такое?
– Проходил тут минут двадцать назад бородатый анархист в черном балахоне и черной шляпе?
– Был такой, – быстро ответил городовой. – Наглый, собака. Поглядел на меня – плюнул. Когда только этой черной сволочи укорот дадут, товарищ Фандорин?
– Скоро. Куда он проследовал, видел?
– А как же. Вниз, – показал постовой в сторону Варварской площади.
– Молодец. Ревблагодарность тебе.
– Служу трудовому народу! – И уже в спину спросил: –…Товарищ Фандорин, а вы кто?
– Герой Плевны, – ответил Эраст Петрович, покосившись на памятник.
Вниз – это хорошо, даже отлично. Там до самой площади поворотов не было, только в Малый Спасоглинищевский переулок, да и тот ока
Страница 15
ался перекрыт баррикадой, должно быть, не разобранной еще с ноябрьских боев (Маса рассказывал, что в Москве офицеры и юнкера долго дрались с большевиками).На углу, против Всехсвятской церкви, сыскался другой перспективный наводчик – мальчишка, продававший газеты. Названия у периодических изданий были совершенно небывалые.
– «Дезертирская правда»! – орал продавец. – Газета «Анархия»! Журнал «Бузотер»!
С этим вышло совсем просто. Фандорин помахал в воздухе десятирублевой кредиткой с лысыми, без короны, орлами (Маса выдал целую пачку), и мальчишка немедленно подбежал.
– Глаза есть? – спросил Эраст Петрович. – Проходил тут бородатый ферт в черной шляпе и черном хламидоне, с кобурой на боку?
– Ага. Сказать, куда пошел? – И цап бумажку тощей лапкой. – В «Красной розе» он. Воон там.
Показал на двухэтажный дом на углу Солянки. Раньше там был цветочный магазин, да и теперь виднелась вывеска с большой красной розой.
– Что там?
– Известно что. Заплатишь – нальют ханжи или спирту. У них там всё есть, даже лахудры в подвале. Только надо тайное слово знать. Подкинь еще десятку – скажу слово.
Революция революцией, а жизнь идет своим чередом, в том числе жизнь подпольная, барыжная, подумал Фандорин. Где и быть вертепу, если не по соседству с Хитровкой?
Что ж, слежка получилась недолгой.
– Дашь десятку-то? – не отставал парнишка.
– Не дам.
Эраст Петрович отъехал.
– Ага, на кой тебе, дохлому, лахудры? – крикнул сзади неделикатный отрок и был прав, но грустить по сему поводу времени не было. Как раз в эту секунду из обители порока на тротуар шагнула длинная черная фигура. Человек в широкополой шляпе, плаще с пелериной (и да, кажется, с бородой) повернул за угол на Солянку и исчез.
Эраст Петрович изо всех сил налег на рычаг, разгоняясь до максимальной скорости. Это было очень хорошо, что «Гарибальди» пробыл в шалмане всего несколько минут. Значит, не успел пропить добычу. Но пришла и другая мысль, в прежние времена не возникшая бы. Догонишь грабителя, и что дальше? Здоровенный лоб, с пистолетом. Раньше Фандорин справился бы с таким в два счета, будь тот хоть с тремя пистолетами, а что теперь? Если постоит и немного подождет, а еще лучше наклонится, можно, конечно, попробовать стукнуть кулаком, в горизонтальном направлении, потому что снизу вверх не получится… А, плевать, только бы догнать!
Охваченный азартом погони, Эраст Петрович вылетел на Солянку, с разгону чуть не сверзшись с тротуара, но кое-как притормозил, развернулся.
Черная фигура была метрах в ста, полы плаща развевались на ходу. Быстро шагает. Куда-то торопится.
Опять исчез. Свернул в сторону Воспитательного дома.
Беспокоясь, не скроется ли объект в каком-нибудь дворе или подъезде, Фандорин снова разогнался, но на этот раз поворот исполнил уже ловчее. По маневренности и скорости кресло, конечно, уступало мотоциклету с коляской, на котором Эраст Петрович так лихо гонял в городе Баку, но принцип в сущности был тот же: следи за заносом и используй массу тела.
Успел в самый раз – увидел, как «Гарибальди» вновь сворачивает, теперь налево, в аллею. Куда она ведет, попытался вспомнить Фандорин. Кажется, к воротам Банковского общества? Больше там вроде бы ничего нет. Во всяком случае раньше не было…
Так и есть. Засаженная красивыми кустами аллея вела к распахнутым воротам, за которыми виднелся двор и фронтон с колоннами. Когда-то здесь была барская усадьба послепожарной постройки, потом контора Ассоциации российских банков. А что нынче? И где «Гарибальди»?
Вон он – взбегает по широкой лестнице. Открылась и захлопнулась дверь.
Кажется, всё. Погоня закончена.
Всё не так просто
Фандорин понял это, когда прочитал надпись на черной полотняной ленте, украшавшей ограду: «Индивидуалистско-анархистская артель СВОБОДА».
– Очень интересно, – пробормотал Эраст Петрович. – Ну, поглядим…
Из ворот деловито вышла бабка совсем не индивидуалистского и тем более не анархистского вида – замотанная в мышастый платок, с бумажным кульком под мышкой, с пузатой бутылью в руке, очень чем-то довольная.
– Первый раз? – сказала она. – Не робей, божий человек. Ехай через двор, а после по стеночке давай, вон туда, за хлигелек. Сегодня крупу дают, постное масло. Анархия – она только на буржуев лютая, а бедным-убогим вроде нас с тобой помогает. Попросту, без карточек, не то что большевики. Многие анархию пугаются, не ходют, а зря. Люди они хорошие, ласковые, дай им бог здоровьичка.
Во дворе Фандорину бросились в глаза два пулеметных гнезда, сложенные из мешков с землей, а из кустов торчало дуло горной пушки. Ласковые? Ну-ну.
«По стеночке за хлигелек» он не поехал, подкатил прямо к парадному входу. Там сидел на ступеньке, покуривал часовой с черной лентой на папахе.
– Ишь ты, туруса на колесах, – сказал он, пялясь на необычное кресло. – Ты, дед, в артель?
– Да. Можно войти?
– У нас всё можно. Свобода.
Часовой зевнул во всю желтозубую пасть и отвернулся. Очень возможно, что он был никакой не часовой
Страница 16
а просто сел человек на ступеньку покурить. В пулеметных гнездах и около орудия вовсе никого не было.С чудесным самоходом надо было расставаться. Эраст Петрович подобрал с земли черную тряпку, соорудил из нее бант, привязал к спинке. Авось идейную каталку не сопрут.
Опираясь на палку, медленно поднялся по ступеням. Тяжелую дверь открыл без труда – это было то же движение, каким он двигал рычаг.
В просторном вестибюле с потолка свисали черные флаги с лозунгами.
«Вся власть безвластию!» – прочел Фандорин. И еще: «Собственность – это кража. П.-Ж.Прудон». «Государство должно быть разрушено. П.А.Кропоткин». «Личность – душа революции. Лев Черный» (кто такой – леший знает).
Были здесь и люди. Посередине овального помещения громко разговаривали трое: длинноволосый очкарик в студенческой шинели, матрос с пулеметной лентой вместо пояса и маленькая скрипучая девушка. «Скрипучей» Эраст Петрович ее мысленно назвал, потому что она всё время жестикулировала и каждое движение сопровождалось хрустом. Куртка на девушке была хромовая, штаны чертовой кожи, башмаки с крагами, на боку большущая кобура.
Матросы-анархисты
– …Если ты мне брат, тогда отстань со своим половым вопросом! – сердито говорила она хрипловатым голоском. Из угла пухлого рта торчала дымящаяся папироса.
– Это буржуазное ханжество! – так же горячо возразил очкастый. – Половое самовыражение – непременный атрибут свободного человека. И половой вопрос у настоящего анархиста может быть только один. Неважно, кто его задает, брат или сестра. Честно спросил – получил честный ответ. «Ты меня хочешь, сестра?» «Ты меня хочешь, брат?»
Фандорин медлил, не столько заинтересованный инцестуальной тематикой, сколько прикидывая, как действовать дальше. Приглядеться к обитателям особняка тоже было полезно. Да и спор приобретал все более любопытное направление.
– А я считаю, что пока не закончится революция, половому вопросу не время! – воскликнула девушка. – И для любви не время!
Вставил свое слово и матрос:
– Насчет любви, сестренка, не скажу, а против натуры не попрешь – перетыкнуться по-братски бывает очень охота.
Загоготал.
– Дурак ты, Чубатый! – крикнула скрипучая.
Очкарик ей укоризненно:
– Полегче, Рысь. Правило четыре.
От непонятного замечания девушка смутилась. Виновато сказала матросу:
– Извини, брат.
Тот осторожно потрепал ее лапищей за плечо:
– Это ты меня извиняй за жеребятину.
И предмет дискуссии, и ее тон показались Фандорину удивительными, однако времени терять не следовало.
– Послушайте….товарищи, – споткнулся он на все еще непривычном обращении. – Тут пару минут назад вошел такой в черной шляпе и черном плаще, бородатый… Мне бы с ним поговорить.
Матрос оглянулся без интереса:
– «Товарищи» у большевиков, а у нас все братья – которые не сестры. Был какой-то, прошел мимо. Кто – не видал. Кажись, туда протопал.
Махнул в сторону коридора и отвернулся – спорить дальше.
– Спасибо….брат, – поблагодарил Эраст Петрович и заковылял в указанном направлении, внимательно осматриваясь.
Он был несколько озадачен. Логово разбойной анархии выглядело не так, как ожидалось. Никаких безобразий не происходит, люди трезвые, пол не заплеванный, бутылок нигде не валяется. Странно.
С обеих сторон коридора чернели кожаные двери. Объект мог войти в любую из них, а мог пройти дальше, к видневшейся вдали лестнице. Встретить бы кого-нибудь такого же вежливого, как те трое, да спросить, что за «Гарибальди» и где его искать.
Одна из дверей открылась, вышел мужчина в одной белой рубашке, с раскрытым воротом, хотя дом был нетопленый и по коридору гулял холодный сквозняк.
Жест, которым мужчина вытер нос, был Фандорину знаком: так делает бывалый кокаинист сразу после «заправки».
Вот это по-анархистски, подумал Эраст Петрович, а то «братья», «сестры», «не время для любви». Про расстегнутую рубашку тоже понятно – от крепкого порошка кидает в жар.
– С легким нюхом! – обратился к кокаинисту Фандорин с обычным для подобной публики приветствием.
Ответ прозвучал неожиданно.
– Ба, господин драматург! – сказал звучный голос. – Как вас… Фандорин? Давненько не показывались.
Мужчина убрал руку от лица, и оно оказалось смутно знакомым. Через секунду из памяти выплыло и имя из прежней театрально-синематографической жизни – в этой среде Эраст Петрович просуществовал три предвоенных года, до самой бакинской неприятности.
Актер Громов-Невский – вот кто это был. Дарования среднего, в первоклассные труппы его не брали – считалось, что он переигрывает, пережимает с эффектами, но охотно приглашали в гастрольные антрепризы на роли героев-любовников. Был он фактурный, зычный, для провинции в самый раз.
Актер-анархист Мамонт Дальский
Играя желваками (кокаин сводит челюсти), Громов крепко пожал Фандорину руку. Глаза с расширившимися зрачками светились неестественной энергией.
– Куда вы пропали?
– Был болен.
– Вижу. С палкой ходите. Постарели.
Но расспрашивать Громову б
Страница 17
ло неинтересно, в таком состоянии хочется говорить самому. По правде сказать, актер тоже не помолодел. Физиономия помялась и слегка обвисла, щеки пожелтели.– Жалко, вас не было. Как я блистал в прошлом и позапрошлом сезонах! Получал до пятисот рублей за выход. Публика сходила с ума. В шестнадцатом имел три бенефиса. Представляете, стало трудно ходить по улице – просят автограф. Сейчас тоже узнают, да театры стали не те. Антреприз нет, репертуарные ставят всякую чепуху – про Пугачевых да Парижскую коммуну. Любовь нынче не в моде.
– Я это уже слышал, – кивнул Эраст Петрович, думая, что встреча очень кстати. Кажется, Громов здесь человек свой. Наверняка знает и господина «Гарибальди». Только очень уж болтлив…
– Черт с ними, с театрами, – широко махнул рукой Громов. – Вы поглядите, какой театр вокруг! Сегодня весь мир – театр.
Эта сентенция мне тоже знакома, подумал Фандорин.
– А что вы-то делаете у анархистов?
– Я один из них. Мне здесь нравится. Какая драматургия, какая труппа, какие декорации!
– И кокаин есть?
Громов оглянулся, понизил голос.
– Это – нет. Вы уж меня не выдавайте. За наркотики и водку наш импресарио вышибает из труппы. В смысле – из артели.
– Кто вышибает?
– Артельщик. Выборный начальник. Человек – гранит, с ним шутки плохи. Сам Арон Воля, легенда анархизма. Слыхали, конечно.
Импозантное имя (или прозвище?) Фандорину ничего не говорило, но это и неудивительно. В 1918 году в России гремели имена, про которые в 1914-м никто слыхом не слыхивал. Ленина, большевистского премьер-министра, Эраст Петрович однажды, тому лет пять, мельком видел, но прочие советские министры, какие-то Тротские, Сверловы, Зержинские (и кого там еще называл Маса), взялись непонятно откуда.
Арон Воля, легенда анархизма? Хорошо бы узнать про него и про здешний контингент побольше.
– Вот что, Громов…
– Зовите меня «Невский», – поправил артист. – Эта революционная река теперь в чести. Считайте меня крейсером «Аврора».
И зашелся смехом, хотя в чем заключалась шутка и при чем тут крейсер, было непонятно.
Это у него эйфорический максимум, прикинул Фандорин. Нужно потрошить, пока не начал скисать. Кокаиновая ажитация длится не долее получаса.
– Вот что, Невский, – тоже шутливо, но в то же время твердо продолжил Эраст Петрович. – Устройте-ка мне экскурсию по вашему зоопарку. Любопытно. А не то выдам вас грозному атаману.
Невский охотно согласился. Аудитория из одного человека – все равно аудитория.
– Известно ли вам, что Москва сегодня двухцветная, красно-черная, и что в городе две власти, две силы, две гвардии – большевистская и анархистская? – громогласно начал актер. – Мы свергли монархию вместе с красными, мы их пока терпим, но уже ясно, что они ненамного лучше царских сатрапов. Вместо одной диктатуры они хотят установить другую. Но у Ленина с Троцким ничего не выйдет! – Мощный кулак рубанул по воздуху. – В одной только Москве полсотни черногвардейских коммун, артелей и отрядов! «Ураган», «Авангард», «Смерч», «Лава», «Буря», «Буревестник» – и, конечно, наша «Свобода»! Большевистский Моссовет сидит на Тверской, а наш «Дом анархии» – в пяти минутах ходьбы, на Малой Дмитровке, в бывшем Купеческом собрании. Молодежь почти вся за нас! Рабочие тоже. О, как я выступал на Трехгорке! Как меня слушали, как принимали! Большевики – бухгалтеры революции, а мы ее художники! Массы пойдут за нами! Здесь, в артели «Свобода», полторы сотни братьев, и все молодец к молодцу!
Пора было повернуть оратора в конструктивное русло.
– Я давеча видел, как сюда вошел весьма колоритный тип, настоящий художник революции. В романтическом черном плаще, широкополой шляпе. Знаете его?
Невский сбился с возвышенного тона.
– Погодите-ка… Про вас рассказывали, что вы не только драматург, но еще и сыщик. – Актер хитро прищурился. – А ну выкладывайте. Расследуете какое-нибудь преступление? Это у нас запросто. Уголовников в артели полно. Вы назовите приметы того, кого ищете.
– Я же сказал: бородатый, длинный черный плащ, очень заметная шляпа. Минут пять назад прошел через вестибюль в эту сторону.
Невский почесал мясистый подбородок, хмыкнул.
– Пойдемте-ка. Покажу кое-что.
Открыл дверь в довольно большое помещение, сплошь заставленное вешалками.
– Здесь у нас раздевалка, она же платяной склад. Пока не закончились дрова и топили, наши оставляли здесь верхнюю одежду. Да вы подойдите.
Фандорин дохромал до двери, заглянул.
Одинаковые черные плащи с пелеринами висели в ряд. Наверху, на полке для головных уборов, лежали шляпы а-ля Гарибальди.
Гарибальди в шляпе «Гарибальди»
– У коммуны портных-анархистов на Трехгорке возникла идея пошить форму для «Черной гвардии». Прислали нам в порядке братской помощи сто комплектов. Но Воля сказал, что мундир – признак принуждения. Плащи с шляпами остались тут. Кому нечего надеть – надевают. И бородатых у нас хватает. Анархисты – чего вы хотите… – Громов как-то вдруг потускнел и сдулся, будто проколотая шина. – Ладно, Фандорин
Страница 18
вы тут гуляйте сами. В «Храм чтения» загляните. Когда мы реквизировали особняк, Воля велел выкинуть из банковской библиотеки всю финансовую литературу, вместо нее притащили анархистскую классику… У нас тут много чего есть. Увидите…Вяло махнул рукой, пошел прочь. Ненадолго же ему хватило дозы, подумал Эраст Петрович. Совсем снюхался «герой-любовник».
Дальше Фандорин двинулся один, опираясь на трость, а иногда и держась за стену. Через каждые двадцать-тридцать шагов приходилось делать передышку. Больше всего сил уходило на то, чтобы не злиться. Поскольку энергия Ки выдохлась, нужно приучаться жить без нее, внушал себе Эраст Петрович. Ибо сказано: «Благородный муж презирает немощь тела, а то, что не может вылечить, почитает здоровьем».
Из открытой двери доносился голос, торжественно декламировавший:
– «Главный принцип индивидуалистического анархизма – право всякой личности свободно распоряжаться собой. Это право принадлежит любому человеку по факту рождения. Человек и его право на выбор являются высшей ценностью и уважаются при любых обстоятельствах. Всякие ограничения свободы могут быть только добровольными. Вместе следует селиться тем людям, кто трактует эти добровольные ограничения одинаково. Земля достаточно велика, чтобы на ней хватило места всем общинам, придерживающимся каждая собственных правил, а кто не хочет никаких ограничений, может жить один».
Лохматый парень студенческого вида вдохновенно читал по книге, воздевая палец в особенно важных местах. Ему внимала публика, человек двадцать, – в основном молодая. Все при оружии. Трое в одинаковых черных плащах с пелеринами, причем один держал на коленях знакомую шляпу. Но лицо было безбородое, юное.
Нахмурившись, Эраст Петрович проследовал дальше. Кажется, поиск будет непростым.
– «…Вот ради какой великой цели мы устроим самую последнюю, самую великую из революций!»
За спиной у Фандорина захлопали. Кто-то звонко крикнул:
– Даешь революцию!
В большом пустом зале, пол которого был устлан матрасами, спали люди. У стены в ряд стояли винтовки. На широком подоконнике рылом во двор торчал пулемет. Должно быть, часть «артели» постоянно находится на казарменном положении, предположил Эраст Петрович. Раз спят днем, значит, ночью бодрствуют. Не такая уж тут, выходит, вольница.
Он добрел до лестницы, ведущей на второй этаж, и заколебался – подниматься или нет.
Задача представлялась чертовски трудной. Именно поэтому Фандорин отступать не стал.
Взявшись за перила, он поставил ногу на ступеньку. Перетащил непослушное тело. Еще шаг. Еще. Остановка.
Улитка, ползущая по склону Фудзи…
Стиснул зубы, преодолел еще три ступени. Немного отдохнул.
До следующей площадки оставался всего один «переход», когда Эраста Петровича окликнули.
– Эй, ты кто? Зачэм здэсь?
Наверху у перил стоял широкоплечий носатый мужчина, грозно сверкал черными глазами. На нем был черный плащ с пелериной, рука лежала на кобуре. Хищная физиономия до глаз заросла густой черной щетиной.
– Я свободная личность. Куда хочу, туда иду, – сказал Фандорин, приглядываясь к незнакомцу и размышляя, достаточно ли длинна щетина, чтобы свидетели назвали ее бородой? У брюнета была еще одна особая примета – довольно сильный грузинский акцент. Генерал про акцент ничего не сказал. Но, может быть, грабитель отобрал медальон молча?
Грузин ощерил острые прокуренные зубы.
– Калэку прыслалы, умныки. Ылы прикыдываешься?
Он скатился по лестнице, крепко взял Эраста Петровича за локоть.
– Сам пойдешь?
И поволок вверх. С непрошеным помощником подъем ускорился, приходилось лишь переставлять ноги.
Фандорин прикинул, не ткнуть ли грубияна в точку «мудо», но для парализующего укола пальцем требовался хороший заряд Ки, а взять его было неоткуда. К тому же сказано: если буря гонит корабль в правильном направлении, не борись с ней, а разверни парус шире.
Артельщик Воля
Буря протащила корабль по коридору второго этажа к двери с табличкой «Приемная». Внутри действительно оказалось совершенно обычное канцелярское помещение: шкафы для бумаг, стол с телефоном, пишущая машинка.
За столом сидела девица в черной коже – та самая, которую Эраст Петрович видел в вестибюле, скрипучая. Она подняла глаза от бухгалтерского абакуса, на котором что-то высчитывала.
– Кого ты привел, Джики?
– Еще одын шпыон, – сказал грузин. – Донеслы: ходыт, смотрыт.
Девица (Фандорин вспомнил, что ее называли «Рысь») наморщила вздернутый носик:
– Староват для шпиона. И не очень-то он ходит, калика перехожий.
– Э, оны хитрие. Знаю я такых инвалыдов. Как запустыт – нэ догонышь. К Арону его веду.
– Валяй, – сказала девица. Откинула на счетах костяшку, что-то записала. Мотнула головой в сторону красивой лепной двери с надписью «Председатель».
Эраст Петрович насупился. Новая жизнь, в которой он оказался, была полна обид. В прежней жизни барышни так быстро интерес к нему не теряли. «Староват», «калика перехожий».
– Иды, иды, – подтолкнул его в спину восточный человек
Страница 19
– Артэлщик людэй насквоз видыт. Окажэшься гныда – убью.От толчка Фандорин едва удержался на неверных ногах, распахнул дверь грудью, и уже за порогом едва успел упереться палкой в богатый ковер.
На краю огромного полированного стола, болтая облезлым сапогом, сидел некто в черном плаще, с нечесаной полуседой бородой.
Он оторвался от книги, со спокойным удивлением посмотрел на влетевшего в кабинет человека, потом на грузина.
– В чем дело, Джики?
Внешность у «артельщика» была любопытная. Широко расставленные глаза обладали странной особенностью. Их взгляд казался рассеянным, даже полусонным, но при этом в нем угадывался затаенный огонь, приглушенный, но в любое мгновение способный вспыхнуть во всю силу. Необычен был и оттенок бледной кожи, почти синеватый, словно никогда не видевшей солнца. Редкий экземпляр, сказал себе Эраст Петрович. Заслуживает изучения.
– Я тэбе говорил, Арон, болшевики совсэм охамэли! Этот в открытую ходыт. Гдэ у нас пулэметы, гдэ что – всё смотрыт. Надо его чпокнуть и за ворота выкынут. Для примэра. Тогда соваться пэрэстанут!
– А с чего ты взял, что это большевистский шпион?
– За бэзопасност кто отвэчает – ты или я? – засердился Джики. – Ты свои дэла дэлай, я – свои. Говорю шпион, стало быт знаю! Дай я его чпокну!
Артельщик пожал плечами.
– Если он и большевик, значит, у него своя правда, просто другая. За это не убивают. Выстави за ворота, и дело с концом.
– Я не уйду, – сказал Эраст Петрович. – Пока не получу то, за чем пришел.
Тут хозяин кабинета посмотрел на него еще раз, уже с интересом. Отложил книгу, встал, подошел. Огоньки в желто-карих глазах засветились сильнее.
– Иди, Джики. Я с ним поговорю.
– Э-э! – закатил глаза грузин. – Всё говорым, говорым. Стрэлят пора! Рэволюцию делат! Болшевики долго говорыт нэ будут!
Хлопнул дверью, вышел.
Арон Воля довольно долго, без церемоний разглядывал Фандорина.
– Интересная комбинация. Ланселот, Сенека и Спящая Красавица в одной обложке.
Последний компонент триады заставил Эраста Петровича вздрогнуть. Он холодно спросил:
– Зачем вы мне это говорите?
– Я всегда говорю что думаю. Правильно я тебя расшифровал или нет?
Пожалуй, с неудовольствием подумал Фандорин. Я и в самом деле хожу по этому чужому миру, будто сомнамбула.
– Вы хорошо разбираетесь в людях?
– Только в интересных. С неинтересными, бывает, ошибаюсь. Говори мне «ты».
– Мне не нравится эта революционная мода. В ней не простота, а грубость.
– А я и раньше так со всеми разговаривал. В семнадцать лет решил, что если собеседник один, то и буду к нему обращаться в единственном числе.
– Должно быть, у вас из-за этого возникали проблемы? – заинтересовался Эраст Петрович.
– Конечно. Но что за жизнь без проблем? Чем она отличалась бы от смерти? Сначала меня выгнали из гимназии. За то, что обратился к инспектору на «ты». Потом тоже бывало всякое. В Иркутской пересыльной тюрьме однажды так избили, что ноги полгода почти не слушались. Хуже, чем у тебя. Тюремный врач меня не лечил, потому что его я тоже называл на «ты». Ничего. Поправился.
А ведь он говорит правду, подумал Эраст Петрович. Этот, кажется, врать не умеет.
– Что ж, у вас свои правила, у меня свои. Я говорю «ты» лишь очень близким людям. Собственно, только одному человеку.
– Наверное, жене? – презрительно покривился артельщик. – Когда человек не умеет жить один, он заводит себе костыль. Так зачем ты сюда пришел? Ты не похож на шпиона. Шпионы такими не бывают. Может быть, ты хочешь вступить в артель? Я тебя приму, ты интересный.
– Я хочу понять, кто вы такие и чего добиваетесь. О какой революции у вас тут толкуют? Революция уже произошла. Даже две революции, в феврале и в октябре.
– Нужна третья, – убежденно сказал Воля. – Настоящая. Первая революция была буржуазной – против царизма. Вторая социалистической – против буржуазии. Третья будет анархистской – против социалистов. Лишь после нашей победы Россия станет свободной. Диктатура пролетариата – все равно диктатура. – Он говорил всё увлеченней, пламя в глазах разгоралось. – Ты посмотри, как отвратительно устроен этот мир. Рождаются дети, и девять из десяти обречены на тяжкий труд, на угнетение и унижение, а десятый, вроде бы счастливец, обречен чувствовать себя паразитом. Ни у кого нет выбора. А человек только тем и отличается от животного, что может выбирать, кем ему стать. Посмотри, как из-за этой несправедливости некрасиво человечество! Как скверно и стыдно оно живет! Посмотри на города, эти закопченные кладбища человеческих судеб!
– Без городов тоже нельзя, – возразил Фандорин, не столько вслушиваясь в смысл слов, сколько пытаясь составить представление об ораторе.
– Можно! Нужно! Людей согнали в эти загоны насильно: здесь легче заработать на кусок хлеба. Всего-то и нужно убрать посредующее звено между трудом и хлебом. Достаточно размозжить голову гидре государства, нанести удар здесь, в Москве, – и люди по всей стране сами устроят свою жизнь. Большинство захотят жить на земле, ды
Страница 20
ать чистым воздухом, воспитывать детей на приволье. Десятки тысяч коммун самоорганизуются и будут жить своим умом, по внутреннему уговору. Как наша артель. А в городах останутся только те, кто захочет работать с машинами или заниматься наукой. И тоже самоорганизуются. Вот что такое настоящая революция!– Вы собираетесь свергнуть советскую власть и говорите об этом не скрываясь?
– Заговоры и козни – не наш метод. Революция побеждает с открытым забралом. У нас в городе уже 26 опорных пунктов. И их становится все больше. Народ видит, что большевики жаждут только власти, а черногвардейцы живут идеей!
– Все без исключения? – спросил Эраст Петрович, чтобы понять, до какой степени этот революционный Манилов оторван от реальности.
– Нет конечно, – даже удивился Воля. – Мы в свою артель берем любого желающего, допросов не устраиваем. Потому что каждый человек априори достоин уважения и доверия. До тех пор, пока не утратит их, совершив что-то недостойное. У артели «Свобода» есть устав из десяти правил. Всякий вступающий обязывается их соблюдать.
Вожди русского анархизма: Волин, Петр Аршинов, Лев Черный
– И что за правила?
– Первое: не жалеть жизни за свободу. Второе: относиться к братьям и сестрам с уважением. Третье: всегда и во всем им помогать. Четвертое: ссориться со своими запрещается. Пятое: драться только с врагами революции. Шестое: всё имущество общее, за исключением предметов личного употребления. Седьмое: строгий сухой закон. Восьмое: не заводить семью до полной победы революции. Девятое: исполнять боевые приказы артельщика, не считая их ограничением свободы. И последнее, десятое: если нарушил любое из правил – безропотно принимать суд своих братьев.
– А как у вас судят?
– Общим голосованием. Есть только две кары. Малая – изгнание из артели. Для этого довольно простого большинства. И высшая мера наказания – расстрел. Но тут для приговора нужно две трети. Мы караем смертью за тяжкие преступления: скажем, за убийство. Человек свободен в своих решениях и поступках, но при этом он должен нести за них полную ответственность. Вплоть до уплаты собственной жизнью. Такова наша анархистская черная правда.
– И случалось вам расстреливать своих?
– Дважды. Брат напился пьян и зарезал другого брата. И еще раз, когда один, из уголовных, изнасиловал гимназистку. Ты видел Джики, моего помощника по боевой части. Он сам из бывших налетчиков, человек суровой судьбы. Джики приводит приговоры в исполнение, рука у него твердая.
Фандорин решился.
– Если в артели «Свобода» такие строгие законы, как бы вы поступили с братом, который ограбил беззащитную старуху?
И он рассказал артельщику о том, что случилось на Покровке.
Воля выслушал, хмурясь.
– Да, нехорошо. Старуху жалко. Но правила артели не нарушены. Реквизиция предметов роскоши у представителей эксплуататорского класса в порядке вещей. Мы меняем изъятые ценности на продовольствие, которое бесплатно раздаем нуждающимся. То, что брат ударил генерала, тоже нормально. Если враждебный элемент сопротивляется, разрешается применять силу. Не убил же он этого графа в конце концов.
– Оставьте золотой медальон себе. Отдайте несчастной матери фотокарточку и локон. Это всё, чего я хочу.
Артельщик подумал.
– Пожалуй, отдадим и медальон, раз он имеет не товарную, а сентиментальную ценность. Тогда это предмет не роскоши, а личного употребления… Как тебя зовут?
– Фандорин.
– Идем со мной, Фандорин. Медальон должен быть в хранилище, где мы держим артельную казну. Сейчас найдем. Потом отправлю с тобой кого-нибудь из братьев. Пусть отдаст матери и возьмет расписку.
Арон Воля стремительно направился к двери. Озадаченный Эраст Петрович, чуть помедлив, заковылял следом.
Артельщик ждал его в приемной, слушая скрипучую барышню.
Она говорила:
– …Так что имеем недельный запас продуктов на сто сорок семь бойцов плюс излишки. Я договорилась с коммуной имени Бакунина, они нам отдали два «максима» в обмен на восемь пудов муки и ту канистру спирта, которую мы изъяли позавчера, спирт ведь нам все равно не нужен. Сверх того, для раздачи населению, остается десять пудов муки, тридцать фунтов сахара, двенадцать мешков картофеля и еще растительное масло. Раздавать?
– Конечно. Молодец, что договорилась про пулеметы. Они нам скоро понадобятся.
Воля ласково хлопнул девушку по плечу, и ее свежее личико порозовело от удовольствия.
– Идем, идем, – поторопил артельщик Фандорина и крепко взял его под руку. – Так легче идти?
– Да, спасибо, – мрачно поблагодарил Эраст Петрович, ненавидя свои ватные ноги.
– Золото сестренка, – сказал Воля в коридоре. – Даже не знаю, кто для артели ценнее – Джики или она. Между прочим, «джики» по-грузински значит «барс», а девушку зовут Рысь. Так что оба мои помощника из семейства кошачьих, что и правильно. Кошка – самый свободолюбивый зверь, недаром римляне сажали ее к ногам богини Либертас. У нас тут всё держится на Рыси, она вроде начальника штаба. Настоящая русская девочка из тех, что
Страница 21
ивут идеей. Раньше такие стреляли в губернаторов и министров, умирали в тюремных голодовках. В прошлом году Рысь записалась в женский «Батальон Смерти» и ушла на фронт. Не из так называемого патриотизма, а во имя прав женщин. Какова? – Артельщик восхищенно рассмеялся. – Получила пулю в грудь, еле выжила. И видишь – снова на переднем крае.Коридор два раза повернул и уперся в металлическую дверь с висячим замком. Рядом находился часовой, но его винтовка лежала на полу, а сам он заканчивал рисовать углем на стене огромную голую бабу, изображенную с максимальным натурализмом.
– Ты что делаешь, Козлов?!
Парень оглянулся. Он был цыганистый, чернобородый, но не в плаще, а в солдатской шинели.
– Не видишь? Рисую. Ты сам говорил: свободный человек должен, как это, развивать в себе художественное начало. Вот, развиваю, а то скучно стоять. Хороша?
– Ничего хорошего, – сердито сказал артельщик. – Такая похабщина унижает женский пол!
Козлов обиделся.
– Вот хрен за тебя сегодня проголосую. И ребятам скажу.
– Да черт с вами, не голосуйте, – пробурчал Воля, доставая ключ. – Хоть отдохну… – Протянул руку, нащупал выключатель. – Заходи, Фандорин. Весь конфискат, который еще не выменяли на продукты, хранится здесь. Тут Рысь распоряжается. У нее во всем порядок.
В небольшой безоконной комнате, стены которой были сплошь заняты деревянными шкафами, на длинном столе лежали аккуратно рассортированные ценности: отдельно – серебряная посуда и подсвечники, золотые монеты столбиками, портсигары, царские ордена, серьги, ожерелья, кольца. Были и медальоны, но ни одного с алмазами.
– Что, нету? Может, брат, изъявший медальон, еще не вернулся?
– Вернулся. Полчаса назад.
У Воли нижняя челюсть будто окаменела.
– По правилам всякий боец, произведший реквизицию, немедленно по возвращении должен сдавать конфискат в казну. Не сдал – значит, вор. У своих братьев украл! За это – суд. Вот что. Ты его опознаешь?
– Лица я не видел. Но знаю приметы.
– Отлично. Сейчас увидишь всех. – Главарь анархистов зло барабанил пальцами по столу. – Слыхал, что часовой про голосование говорил? У нас раз в неделю перевыборы артельщика. Такой порядок. Каждый четверг, в пять пополудни, общее собрание. Сегодня как раз четверг, и время, – он взглянул на часы, – половина пятого. Пойдешь со мной, покажешь мерзавца.
Свободный выбор
Собрание артели происходило на заднем дворе – должно быть, в здании не было помещения, способного вместить весь отряд. На асфальтовой площадке, зажатой между главным корпусом, флигелями и оградой, стояло сотни полторы людей – как сразу заметил Фандорин, почти сплошь «братьев». «Сестер» вместе с уже знакомой ему Рысью не набралось бы и десятка. Анархические дамы были не менее живописны, чем мужчины, но в данный момент они Эраста Петровича не интересовали.
Хорошо, что все собрались снаружи, на холоде. Значит, были в верхней одежде и, что особенно кстати, в головных уборах. Фандорин пересчитал гарибальдийские шляпы (двадцать семь), выбраковал тех, кто не в плаще с пелериной (получилось одиннадцать), а из этих выделил высоких и чернобородых. Осталось всего три человека.
Один – кадыкастый, с бороденкой перьями, совсем юный, но при этом ерепенистый, с вызывающе выпяченной нижней губой. Стоял руки в карманах, время от времени поплевывал.
Другой – смуглый, с быстрым взглядом, всё время переступающий с ноги на ногу, словно готовый сорваться с места. Из фартовых, ясно.
Третий, наоборот, совершенно неподвижный, физиономия каменная, почти до глаз заросшая дремучей бородой.
Любого из троих очень легко было представить в роли уличного грабителя.
Вел собрание жутковатый Барс-Джики. И понятно почему – видно было, что дикая вольница побаивается свирепого кавказца.
Оратор из Джики был никакой.
– Ну чэго, – сказал он, уперев руки в бока. – В пэрвый раз что лы? Давай, Арон. Выходы.
Вот и всё вступление.
Должно быть, Воле как действующему артельщику полагалось обратиться к собранию с предвыборной речью.
Она тоже была не слишком длинной.
Воля поднялся на крыльцо, обвел двор своим пылающим взглядом, начал негромко:
– Спасибо, что раз за разом меня переизбираете. Надоело, поди, каждую неделю слушать одно и то же. Поэтому я коротко. Про самое главное. Про нашу черную правду. Она почему называется черной?
Слушали его хорошо. Толпа отлично чувствует настоящую, неподдельную одержимость, подумал Фандорин, и заряжается, а то и заражается ею.
– …Потому что мы человека не забеливаем и не раскрашиваем. Мы его любим черненьким. Таким, каков он есть. Я люблю вас всех. Злых, обиженных, больных сифилисом, про?клятых, никому не нужных, грешных, преступных – всяких. И знаете почему? Потому что вы – здесь, в артели «Свобода», а значит, для вас свобода важнее всего. Вы такие же, как я. Вы мои братья и сестры. Как и я, вы ничего и никого не пожалеете во имя свободы. А я ничего и никого, включая самого себя, не пожалею ради вас, и вы это знаете. Всё, я кончил. Вы свободные люди, реша
Страница 22
те.Ему не хлопали, одобрительно не кричали, но молчание было красноречивее аплодисментов.
Вот каким должен быть вождь. Во всяком случае, в охваченной революцией России, сказал себе Эраст Петрович и вздохнул. Ничего и никого не жалеть – слишком дорогая цена. Даже за свободу.
А Воля встал рядом и спокойно, будто только что не произносил высоких слов, шепнул:
– Ну? Видишь мерзавца?
– По приметам подходят трое, – так же тихо ответил Фандорин. И объяснил, кто именно.
– Спартак, Топор, Жохов… – процедил Воля, недобро прищурившись. – Ладно. Выборы кончатся – разберемся.
Собрание тем временем продолжалось.
Когда Джики спросил, готова ли артель голосовать или еще кто хочет выступить, поднялась рука.
– Хватит с нас Арона! – крикнул какой-то в картузе. – При таком Воле никакой воли нет! Братва, даешь актера в артельщики! Невского желаем!
Громов-Невский был тут же, в плаще поверх рубашки, бледноватый, но улыбчивый. Он помахал всем рукой и шутливо поклонился, уронив на лоб пышную прядь.
– Это наш артист, – сказал Воля. – Знаменитость. Отлично выступает на митингах и вообще много сделал для пропаганды наших идей.
Эраст Петрович не уловил в этих словах ни враждебности, ни ревности.
Толпа оживилась. Кто-то засмеялся, кто-то выкрикнул:
– Давай, Невский! Скажи речь!
Актер легко поднялся по ступенькам, скинул плащ, тряхнул шевелюрой. Говорил он с эффектными паузами, отлично поставленным баритоном.
– Дорогие братья и еще более дорогие сестры! Я тоже буду краток. В отличие от предыдущего оратора я вас всех терпеть не могу. Потому что вы уроды. Половина – бандиты, а половина – психи, вроде вашего покорного. Чем сидеть дома, чай пить, ищете приключений на свою задницу. – Аудитория засмеялась. – Но я торчу в этом шалмане по той же причине, что и вы. У них там, – Невский махнул рукой за ограду, – скукота, а у нас тут весело. Правда, могло бы быть еще веселей. Моя выборная программа включает в себя только один пункт. Даешь вместо сухого закона мокрый! Седьмое правило надо переписать: «Кто не умеет пить и от спирта или марафета превращается в свинью – того гнать в шею, а все прочие квасьте себе на здоровье». Всё, я кончил. Вы свободные люди, решайте, – очень похоже передразнил актер глуховатый голос Воли и поклонился.
Во дворе и хлопали, и смеялись.
– Они вас сейчас сместят, – сказал Фандорин с тревогой. Дело, которое, казалось, шло к концу, в этом случае осложнилось бы.
– Пускай, – равнодушно бросил Воля. – У людей свободный выбор. Хотят пьянствовать – их дело. Ничего, за неделю поймут, что так нельзя, и снова выберут меня, а сухой закон восстановят. Ты не волнуйся. Остальных правил никто не отменяет, так что вора мы все равно выявим.
Джики объявил голосование.
– Сначала подымай рукы кто за Арона, – сказал он и сам первый вскинул кулак.
К удивлению Фандорина, почти вся толпа последовала примеру грузина, в том числе и Невский. Поймав взгляд Эраста Петровича, актер подмигнул. Стало ясно, что кроме всеобщего внимания и аплодисментов «герою-любовнику» ничего и не требовалось.
Благодарственную речь победитель произносить не стал.
– Кто на дежурстве – по местам! – крикнул он. – Остальным тоже далеко не отлучаться. Жохов, Топор, Спартак, через пять минут ко мне!
Лучшие из худших
– Что вы собираетесь делать? Обыскать их?
Фандорин не поспевал за угрюмым артельщиком. Тот остановился, подождал.
– Нет. Обыск унизителен. К тому же вор мог где-то припрятать добычу. Потолкую с ними. Я же говорил, я хорошо вижу людей. Да и ты, я уверен, в них разбираешься. Нарочно велел им зайти не сразу. Коротко объясню про каждого. Спартак, самый молодой, когда-то был учеником телеграфиста, но с прошлого февраля втянулся в революцию. Он к нам попал из безмотивников.
– Кто это?
– Самые крайние из анархистов. Считают, что все представители эксплуататорского класса преступники и подлежат уничтожению. Безмотивники подкладывали бомбы в вагоны первого класса, поджигали дорогие дачи, обстреливали окна богатых домов. Безо всякого мотива, отсюда и название. Спартак – парень резкий, даже жестокий. Думаю, от юношеского максимализма. Но неплохой. Во время ноябрьских боев штурмовали мы штаб милиции Временного правительства, а там – собачий питомник. Ну, пожар, псы воют, не могут выбраться. Так Спартак кинулся прямо в огонь и выволок ищейку. Рисковал. Не думаю, что это он ограбил стариков. То есть отобрать медальон мог, но утаить – непохоже.
Эраст Петрович не стал спорить, хоть повидал на своем веку самых разных «юношеских максималистов», в том числе отъявленных преступников.
– Что скажете про смуглого, дерганого?
– Топор. Видели, у него за поясом топорик на коротком топорище? Отсюда и прозвище. С этим нехитрым инструментом он управляется, как хирург со скальпелем. Хоть дверь вскрыть, хоть ногти почистить, хоть череп проломить.
– Налетчик, – кивнул Фандорин. Ремесло второго он угадал верно, да это было и нетрудно.
– Уголовный элемент, – подтвердил Воля. – У нас так
Страница 23
х много, я говорил. Это нормально. Бандит стихийно, по зову натуры, отвергает эксплуататорское общество с его законами. Такие, как Топор, были на Руси всегда. Шалили по лесам и дорогам, а при Разине и Пугачеве резали дворян. Анархия – магнит особый. Притягивает самых лучших и самых худших. Точнее так: самых лучших из лучших и самых лучших из худших, – поправился он. – За Топора я, пожалуй, не поручусь. Сколько волка ни корми…Полный георгиевский кавалер Николай Федорчук
– Третий? Неподвижный?
– Он только с виду неподвижный, Жохов. Когда надо, он быстрый. Герой войны, полный георгиевский бант. Пластун-разведчик. Ползал через линию фронта, приволакивал «языков». В одиночку. Он вообще-то молчалив, но однажды со мной разговорился. Рассказал, что в тылу у немцев сначала, бывало, одного-двоих зарежет «для сугрева» и только потом берет живого. Этот из людей, в которых война разбудила зверя. Про него ничего сказать не могу. Субъект интересный, но совершенно непредсказуемый.
Они наконец добрались до приемной, где Рысь раскладывала по полкам в маленькой комнатке-кладовке какие-то папки.
– Поздравляю с переизбранием! – высунулась она.
– Было бы с чем, – проворчал Воля. – Сейчас ко мне трое придут. Пустишь.
– Знаю, слышала. Спартак, Топор и этот кошмарный Жохов. Не могу его видеть, бррр. От него трупом пахнет.
– Что ты врешь. Каким трупом? – удивился Воля, должно быть, не читавший Чехова. – У меня нюх хороший. Я бы уловил. В общем, ко мне их.
Не прошло минуты, в дверь постучали. Один за другим вошли подозреваемые: первым уголовный «хирург», вторым «безмотивник», последним, неторопливо, герой войны.
– Здорово, братья, – сказал Воля.
В одинаковых плащах и шляпах, с заросшими черным волосом лицами они действительно были похожи на младшего, среднего и старшего братьев.
– Чего вызвал, начальник? – спросил нетерпеливый Топор. – Дело какое? Я со вчерашнего не спал. Собирался в матрасную, подрыхнуть.
Воля молча смотрел на него своими мерцающими глазами, будто просвечивал насквозь. Потом так же неспешно оглядел остальных. Спартак не обратил на это никакого внимания, он пялился в пространство, пошмыгивая носом. Жохов выдержал пронизывающий взгляд с абсолютной невозмутимостью. Но Топору осмотр не понравился. Он задергал углом рта, в голосе зазвучала истерическая нотка:
– Ты чего глазами впился, будто дырку сверлишь? Говори чего надо!
Артельщик тихо спросил:
– Кто-нибудь из вас сегодня реквизицию делал?
– Я – нет, – быстро ответил Топор. – А чё такое?
– А? – не сразу услышал молодой. – Нет… Я по своим делам ходил.
Жохов отрицательно качнул головой.
Воля стал совсем мрачен. Должно быть, все же надеялся, что медальон сдадут.
– …Чтоб больше никаких реквизиций. Начинается горячее время. Будет сшибка с большевиками.
Жохов кивнул.
Топор сказал:
– Пустим краснюкам краснянку, давно пора.
– А? – переспросил Спартак.
– С завтрашнего дня перевожу всю артель на боевое положение. А вас троих прошу заступить на боевое дежурство прямо сейчас. Вы, братья, мне нужны. Топор, поручаю тебе проверку караулов. Чтоб глядели в оба. А то разболтались, ворон считают. Пулеметные гнезда во дворе пустые. Часовой, вместо того чтоб казну охранять, бабу на стене рисует.
– Понял, – кивнул бывший налетчик. – Будут стоять, как на шухере.
– Спартак, ты давай на телеграфный пункт. Не забыл, чему учился? Мы в штабе, на совещании командиров, договорились телефонной связью для секретных разговоров больше не пользоваться. Коммутатор занят большевиками, подслушивают.
– Я не могу, – насупился Спартак. – Сегодня никак. Дело у меня.
– Какое еще дело?
Покраснел.
– Личное…
– Личные дела после победы революции! – вскипел Воля. – Марш на телеграфный пункт! Девятое правило помнишь?
Тот с несчастным видом кивнул.
– Теперь ты, Жохов. Рысь выменяла два новых «максима». Проверь состояние. Если что не так – исправь. Тебе одному доверяю, ты на все руки мастер.
Молчун наклонил голову и впервые разомкнул уста. Сипло спросил:
– Всё, что ли? Тогда я пошел.
За ним последовали остальные.
– Который, по-твоему? – спросил Воля.
– Любой. В том числе и мальчишка. Для себя он золотую безделушку не взял бы, но ведь он влюблен. Я этот отсутствующий взгляд хорошо знаю. Может быть, у него есть какая-то Клеопатра, которая требует дорогих подарков.
Артельщик вздохнул.
– Да. Я всё время забываю про этот фактор. Ладно. Дальше мы сделаем вот что…
Дверь распахнулась. В кабинет ворвался Джики.
– На чэрдаке сосэднего дома латишы ставят пулэмёт! – возбужденно объявил он. – Что дэлат, Арон? – И сам ответил: – Пэрэстрэлят к эдрёне матэри! Пуст знают, как с нами шутки шутыт!
– Спокойно, Джики, спокойно. – Воля взял грузина за плечи. – Остынь. Стрелять в большевиков рано. Возьми ребят, поднимитесь на чердак. Латышей вежливо выпроводить. Пулемет реквизировать. Пусть передадут от Арона Воли привет товарищу Дзержинскому и благодарность за помощь оружием. Понял? Веж-ли-во
Страница 24
Кавказец ухмыльнулся.
– Почэму не понял? Вэжливо. Пулэмёт на мэсте оставлю. Толко с нашим расчётом.
– Вот это правильно. Иди.
Они снова остались вдвоем.
– Вы начали говорить о том, что собираетесь сделать дальше, – напомнил Эраст Петрович.
– Не я, а мы… – Воля стоял спиной к двери, сосредоточенно потирая переносицу. – Может быть, эта поганая история даже к лучшему. Со дня на день будет решающее столкновение черной правды с красной. Суд над вором встряхнет братьев. И прогнать подлеца будет мало. Потребую высшей меры. Надо подтянуть революционную дисциплину перед большими событиями.
– Как же вы определите, который из них вор? – спросил Фандорин, не особенно веря в дедуктивные способности анархического вождя.
– Очень просто. Мы сейчас сходим к твоему графу и попросим его описать внешность грабителя поподробнее. Только и всего. Ты ведь адрес знаешь?
– Да. Это в десяти минутах. Петроверигский переулок. Бывший дом Чернышевых. Они живут в дворницкой.
Оказывается, Воля не так уж прост. Дал подозреваемым такие поручения, чтоб никуда не отлучались, – фактически поместил под домашний арест. И скоро, не позднее, чем через полчаса, виновный будет изобличен.
– Пойдем, – сказал Воля, надевая шляпу.
– Кто пойдет, а кто поедет, – вздохнул Эраст Петрович.
Причуды везения
Каталку, защищенную черным бантом, никто не тронул. Уставший от ходьбы Фандорин с облегчением опустился в кресло, взялся за рычаг.
Поехали.
– Послушайте, – искоса посмотрел Эраст Петрович на спутника. – Вы же человек умный, немолодой, много повидавший. Неужели вы во всё это верите?
– Во что «в это»?
– В вашу черную правду. Что люди, какие они есть, способны «самоорганизоваться»? Что наша огромная неграмотная страна, где каждый живет по принципу «своя рубаха ближе к телу» и «моя хата с краю», превратится в братство анархических коммун?
– «Своя рубаха ближе к телу» и «моя хата с краю» – это правильные, врожденные инстинкты, – спокойно ответил Воля. – В этом вся суть анархизма-индивидуализма. Всякого рода «государственники», включая большевиков, ненавидят человеческую природу, насилуют ее. Заставляют людей жить ради каких-то выдуманных идеалов, будь то Третий Рим, «вера-царь-отечество» или диктатура пролетариата. А человеку всё это ни к чему. Он хочет жить собою и близкими, помогать тем, кого знает и любит, работать на себя, а не на дядю. Это и называется свободой. И это никакая не утопия. У нас страна на девять десятых состоит из крестьян, а они все природные анархисты. Им не нужна никакая власть. Они сами умеют наводить у себя в общине порядок, защищаться от чужих. Чтобы менять зерно и мясо на промышленные изделия, государственная машина ни к чему. Рабочий с крестьянином отлично между собой сторгуются. Я в шестнадцатом году сидел в камере с одним украинцем. Совсем простой парень. Нестор Махно его звали. Мы с ним много про это говорили. А сейчас он пишет мне с Украины. Они там у себя в уезде создали крестьянскую коммуну и живут по анархистской правде. Отлично получается – безо всякой полиции, без чиновников, без денег. Вот как родится новый мир. Если, конечно, мы тут в Москве не оплошаем. Большевики – противник сильный…
Слушая эти рассуждения, Фандорин то и дело оглядывался. Наконец перебил:
– За нами слежка. Притом плотная. Идут от самых ворот, сразу трое. Пытаются быть незаметными, но работают топорно.
– Агенты Чрезвычайки, – без интереса объяснил Воля. – Они в последнее время очень активизировались. Когда я выхожу, всегда увязываются. Хотят знать, где был, что делал, с кем встречался. Я же говорю: большевизм не лучше самодержавия, без тайной полиции никуда. Не обращай внимания. Тронуть меня у них кишка тонка. Такое начнется!
Космодамианский переулок
И даже не обернулся.
В густеющих сумерках они медленно поднимались по наклонному Космодамианскому переулку, до чернышевского дома оставалось повернуть только за угол. С фандоринской скоростью дорога заняла вместо десяти минут все двадцать.
– Вон тот желтый особняк, – показал Фандорин. – Эй, любезный, где тут дворницкая? – окликнул он сильно нетрезвого мужичка, выбредшего из подворотни.
Пролетарий посмотрел недобро.
– Любезным всем кишки повыпускали… – Перевел взгляд на Волю в его черном плаще, с «маузером» на ремне и перепугался. – Дворницкая? А это во дворе, направо. Там ступенечки крутые, не оступитеся.
Ступеньки в полуподвал действительно были крутоваты. Эраст Петрович поглядел на них с сомнением – черта с два спустишься.
– Подожди здесь. Сам поговорю. Двухминутное дело, – сказал Воля.
Сбежал по лестнице, толкнул дверь, вошел.
– Эй, хозяин! – донеслось снизу.
И надолго установилась тишина. Прошло не две минуты, а пять, потом десять. Пятнадцать.
У Фандорина начали приподниматься брови. Он крикнул:
– Господин Воля! Почему так долго?
Никакого ответа.
Все-таки придется спускаться.
Поднявшись с кресла, Эраст Петрович взялся за стену и уперся палкой в ступеньку, примериваясь, как
Страница 25
оставить ногу. Энергия Ки, подлая предательница, злорадно наблюдала за этими титаническими усилиями.– Тикусё! – выругался Фандорин по-японски, чтоб ей было понятней.
Он был на третьей ступени и оставалось еще четыре, когда дверь открылась. Внизу стоял Воля. Его лицо странно дрожало.
– Старик и старуха мертвы. Убиты. Там всюду кровь. Совсем свежая. Еще течет… То есть текла, когда вошел. Теперь уже перестала… Я простоял, не знаю сколько…
– Для революционера вы слишком впечатлительны, – зло сказал Эраст Петрович. – Подвиньтесь. Дайте пройти.
Он преодолел вторую половину лестницы короткими, неуклюжими скачками, больше полагаясь на палку, чем на ноги. Оттолкнул анархиста, вошел в крошечную полутемную квартирку.
Александр Ксенофонтович и Аполлинария Львовна лежали на полу, навзничь. Генерал прикрывал жену рукой, будто защищая.
Оба убиты металлическим предметом, вероятнее всего, кастетом, по профессиональной привычке отметил Фандорин, с трудом опускаясь на корточки. Он – ударом в лоб, она – в висок. Бил человек немалой физической силы. У генерала на лице застыло выражение испуга. Догадывался, что сейчас произойдет. Скорее всего, узнал убийцу. У старухи, наоборот, черты были мирные, расслабленные. Наверное, так Аполлинария Львовна выглядела, пока не лишилась рассудка. И да, убийство произошло совсем недавно. Не более двадцати минут назад. Из этого следует, что…
– Наш разговор в кабинете был подслушан, – глухо сказал Воля. – Вы ведь назвали адрес. Мерзавец понял, что его неминуемо разоблачат, и побежал сюда. И пока мы добирались, убрал концы в воду.
А Фандорин, закончив осмотр, позволил себе думать о несущественном.
Что карточку и локон возвращать больше не нужно. Эти предметы теперь не имеют ценности ни для кого на свете. И что графу с графиней, в сущности, повезло. Они жили долго, и хоть не всегда счастливо, но умерли в один день и даже почти в одно мгновение. Оказывается, удача бывает и такой…
– Этого не может быть, – продолжал артельщик вычислять то, что Эрасту Петровичу было уже ясно. – За дверью всё время была Рысь. Подслушивать посторонним она не позволила бы… Рысь? Но как?! Почему?!
Он развернулся и выбежал из подвала, забыв о Фандорине.
Конец расследования
На четырех колесиках Эраст Петрович катился довольно резво, достигнув в своем инвалидном лихачестве изрядного мастерства, однако в артели, по коридорам и лестнице ковылял по-черепашьи, так что на увертюру опоздал.
Из приемной слышался громкий голос Воли.
– …Отвечай! Кому из них ты проболталась? Топору? Жохову? Спартаку? Которому? Ну что ты изображаешь оскорбленную невинность? Кроме тебя никто подслушать не мог. А теперь убиты два человека. Их кровь на тебе! Что ты молчишь?! Как ты могла?!
Фандорин открыл дверь.
Артельщик нависал над своей помощницей, тряс кулаком перед ее носом. Рысь стояла перед ним бледная, закусив нижнюю губу, глядела снизу вверх мокрыми глазами. Яростно вытерла слезу.
– Это ты! – закричала и она. – Как можешь ты? Мне! Такое! – Захлебнулась. – Ничего я не подслушивала! Эх, ты…
Резко отвернулась.
Воля схватил ее за тонкие плечи, развернул обратно.
– Чудес не бывает. Мы с Фандориным говорили один на один. Стояли близко от двери. Допустим, ты нарочно не подслушивала, но ты не могла не слышать. Был назван адрес. И убийца явился туда раньше нас. Как ты это объяснишь?
– Ничего я тебе объяснять не буду… Думай что хочешь.
Девушка упрямо опустила голову. Ее подбородок дрожал.
Эраст Петрович решил, что пора вмешаться.
– Сударыня, – сказал он, приблизившись. – Вы хотите сказать, что вас здесь не было?
Она молча кивнула.
– Куда же ты выходила? – спросил Воля. Он тяжело дышал.
– Никуда я не выходила, – буркнула Рысь. – Ничего я тебе объяснять не буду.
Не была в приемной, но никуда не выходила? Фандорин посмотрел вокруг.
– Вы были вон там?
Он показал на приоткрытую дверь кладовки, где находились полки с папками.
Рысь опять кивнула.
– Но если кто-то вошел в приемную, вы не могли этого не знать. Скрипнула бы дверь, послышались бы шаги. Был кто-нибудь?
Снова кивнула. Плечи затряслись.
– Ты видела, кто это? – закричал Воля.
Мотнула головой.
– Трудно поверить, сударыня, что вы не выглянули посмотреть, кто пришел, – мягко сказал Фандорин. – Это на вас не похоже.
– Я на стуле стояла. Список личного состава доставала с верхней полки. Этот, – Рысь враждебно ткнула пальцем на артельщика, – велел проверить и доложить убыль-прибыль. Но я его окликнула, и он ответил.
– Кого окликнули? Вошедшего?
– Да. Эй, говорю, кто там. Погоди минуту, сейчас выйду. А он мне: не торопись, сестренка. Пожду.
– Кто это был?! – взвился Воля. – Ты поняла по голосу?!
Девушка не удостоила его ответом.
– Кто это был? – повторил вопрос Эраст Петрович, и ему она сказала:
– Жохов.
– Вы уверены?
– У него голос – не спутаешь. Сиплый. Он и назвался. «Я это, Жохов». Но не дождался. Я когда вернулась, его уже не было…
Фандорин и Воля молча пер
Страница 26
глянулись.– Как ты мог, как ты мог про меня такое подумать? – горько обратилась к артельщику Рысь. – Что я подслушала и кому-то наболтала? Это я-то?
– А что я должен был подумать? – промямлил Воля. – И почему ты сразу не сказала, что это Жохов?
– Ты так накинулся! Уже заранее решил, что я виновата! Никогда тебе не прощу! Я ради него… Я ради тебя…
И не удержалась, расплакалась по-настоящему.
– Ну чего ты, чего ты. – Артельщик неловко погладил ее по плечу. – В самом деле, нехорошо получилось…
Фандорин бесцеремонно вмешался в это трогательное объяснение:
– Господин Воля, давайте-ка лучше займемся убийцей.
– Ищи его теперь. Поди, уж и след простыл.
– Не думаю. Зачем тогда было убирать свидетелей? Нет, он где-то здесь.
Отправились на поиски. Всех, кто попадался на пути, Воля спрашивал, не видели ли они Жохова.
– Он внизу был, – сказал пятый или шестой из встреченных. – С артистом, с Невским балакал.
Пошли вниз. На лестнице Воля нетерпеливо тянул медлительного спутника за локоть.
– Эй, Невский! – крикнул он, выпуская фандоринскую руку и сбегая вниз. – Давай сюда!
Актер подошел, с любопытством посматривая на Эраста Петровича. Ухмыльнулся:
– Я гляжу, вы стали неразлучны. Как Дон Кихот… с еще одним Дон Кихотом.
– Где Жохов? Ты с ним разговаривал. Давно расстались?
– Минут пять. Может, десять. Он сказал, что пойдет, сдаст в казну какой-то конфискат. А что?
– В казну?
Воля кинулся обратно по лестнице, на второй этаж. Развернулся и Фандорин. Он изобрел новый способ подъема. Трость просунул в пуговичную петлю, чтобы освободить руку. Брался за перила, рывком переставлял сразу обе ноги, перекидывал руки выше, опять прыгал. Так получалось быстрее.
Невский шел рядом.
– Что это с нашим Бакуниным? Никогда его таким не видел.
Ответить Эраст Петрович не мог, его зубы были стиснуты.
По длинному коридору он двинулся вскачь: одной рукой обхватил Невского за плечо, другой опирался на палку.
Завернули за угол.
Воля стоял, схватившись за голову. На полу, под нарисованной бабой, в луже крови лежал человек. Это был давешний часовой, Козлов. Точно такой же удар в висок, как в Петроверигском переулке, еще издали определил Фандорин.
Дверь была приоткрыта, в стороне валялся сбитый замок.
– О, что за бойня здесь! – продекламировал актер слова принца Фортинбраса и, оставив инвалида, побежал вперед. – Никак нас грабанули? Экспроприировали экспроприаторов? Ловко!
Они вошли в казну втроем. Серебряная посуда и прочие громоздкие вещи остались на месте, но мелкие ювелирные изделия исчезли.
Белый от ярости Воля выдернул из футляра «маузер» и стал палить в потолок.
Через минуту комната и коридор наполнились сбежавшимися на выстрелы людьми. Вперед протиснулся Джики.
– Оцепление по всему периметру, – приказал артельщик. – Ищем Жохова.
Все разом загудели: «Жохов, где Жохов, кто видел Жохова?»
– Жохов на задний двор выходил, – сказал кто-то.
Всей толпой побежали туда.
Во дворе, где проходило собрание, было темно и пусто. Асфальт с канализационным люком посередине, железные прутья ограды – и больше ничего.
– Ушел, сволоч! – обернулся к артельщику Джики. – Пэрэлэз и ушел. Тепэр не найдешь.
Пока все шумели, обсуждая случившееся, Эраст Петрович прошелся по двору, постоял у ограды, потом присел на корточки у железной крышки колодца.
Вернулся.
– Прикажите обыскать этого человека, – сказал он артельщику, показывая на актера. – Вы сами себя выдали, Невский. Мы знаем только с ваших слов, что Жохов собирался идти в казну. Зачем бы он стал вам про это говорить, если собирался совершить ограбление?
Стало тихо.
– Вы рехнулись, калека? – ошеломленно произнес Невский. – Арон, это провокатор. Хочет, чтобы мы перегрызлись между собой. Ты знаешь, чем он при царе занимался? Он сыщик, полицейская ищейка!
– Э, пагады, – повернулся к нему Джики. – Ты мне говорыл – он болшевистская ищейка.
Невский открыл рот – и ничего не сказал.
– Это страшное обвинение. – Воля глядел Фандорину в глаза. – У тебя есть доказательства?
– Обыщите его – найдутся.
– Это мой брат. Я не стану унижать его обыском без достаточных оснований.
– Основание там, – показал Эраст Петрович на канализационный люк. – Труп Жохова. Я видел на асфальте несколько капель крови. Уверен, что метод убийства окажется тот же – удар кастетом. Господин Джики, приглядите за господином Невским, чтоб не сбежал.
Воля кивнул грузину. Тот полуобнял артиста за талию.
– Если Жохова там нэту, я инвалида самого в колодэц спущу. Обэщаю, – успокоил он Невского.
Актера эти слова, однако, не успокоили. Он облизнул сухие губы, оглянулся. Сзади плотно стояли анархисты.
– Есть! Лежит внизу кто-то! – закричали с середины двора, светя фонарем в люк.
– Обыскать! – приказал артельщик.
Из карманов Невского достали золотые броши, серьги, несколько колец с камнями. Кастет. Накладную бороду.
– Гадина, – сказал Воля. – Судить будем прямо здесь и сейчас. Нашим братским судом.
Страница 27
Братский суд
Не уверенный в сообразительности «присяжных», Эраст Петрович повторил основные тезисы своей обвинительной речи еще раз, теперь коротко:
– Невский – наркоман, тяжелый кокаинист. Это раз. Цены на порошок заоблачные, из-за этого Невский и пристал к артели «Свобода» – чтобы, прикрываясь «черной правдой», безнаказанно грабить обывателей. Это два. Поскольку его лицо известно многим москвичам, он прицеплял фальшивую бороду – вероятно, взял в театральной гримерке. Это три. Медальон, отобранный у стариков Чернышевых, Невский сразу отнес в кабак «Красная роза» и поменял на марафет. Это четыре. Я имел неосторожность рассказать ему, кого я ищу, описав приметы. Зная мое прошлое, Невский сразу догадался, что я иду по следу. Это пять. Он попытался избавиться от меня, наврав Джики, что я красный шпион. Потом, на собрании, увидел, что я стою рядом с Волей и что тот вызывает к себе трех человек, соответствующих приметам. Это шесть. Невский забеспокоился, пошел выяснять. Ему повезло, что Рыси не было на месте. Он актер, он легко подделал голос Жохова. Подслушал, что мы с Волей собираемся в Петроверигский переулок, и понял, чем это ему грозит. Это семь. Опередив нас, убрал обоих свидетелей, не пожалев даже сумасшедшую старуху. Это восемь. Потом решил убить двух зайцев: ограбить артельную казну и свалить вину на Жохова…
Эраст Петрович посмотрел на председателя суда – Арона Волю. Подытожил:
– Мотивы преступления очевидны, цепочка событий полностью восстановлена, вещественные улики налицо.
Артельщик обратился к присяжным:
– Понятно?
– Чего тут непонятного? Сволочь он! В расход его! – многоголосо откликнулся двор. Он был заполнен белыми и черными лицами – в зависимости от того, как падал свет из окон. Электричество горело во всех помещениях, чтобы осветить площадку. Присяжными были все бойцы отряда.
– Слово для защиты обвиняемому, – объявил председатель. – Брат Невский, если тебе есть что сказать – говори.
Актер, выслушавший обвинение, сидя на ступеньке крыльца, поднялся. Картинно запахнул плащ, должно быть, воображая себя на сцене, перед полным залом.
– Вы думаете, вы анархисты? – загремел красивый, мощный голос. – Вы думаете, он анархист? – Перст эффектно показал на Волю. – Нет, вы мещане и обыватели. А унылый зануда, которого вы раз за разом сажаете себе на шею, – вдвойне. Он нес вам чепуху про черную правду, а вы, раззявя рты, слушали. Я вам объясню, что такое настоящая черная правда. Она – как черная, беззвездная ночь. Она – как космос! – Палец торжественно ткнул в небо. Оно действительно было беспросветно черным. – Правда в настоящей свободе! А настоящая свобода – это не свобода от государства и не свобода от общества, это внутренняя свобода! Ты сам решаешь, на что у тебя есть право, а на что нет. Сам, а не под гнетом придуманной кем-то морали. Худший вид рабства – рабство моральное, кандалы чужих представлений о добре и зле! К черту мораль! К черту кастрата Арона! Братва, давайте жить по-другому. Широко, весело, в полную грудь! Это будет такая лафа, после которой умирать не страшно! На кой вам меня судить? Я один из вас, я такой же, как вы! Я и есть черная правда! Выбирайте меня – нет, не артельщиком, мы ведь с вами не бурлаки и не плотники – выбирайте меня своим атаманом! Обещаю: скучно со мной не будет. Кто «за» – подымай руки!
Эхо пометалось между стен главного здания и флигелей, стихло. Собрание гудело. Страстная речь произвела впечатление.
– Я не держусь за свое место! – Воля перекричал шум. – Хотите меня переизбрать – валяйте. Хоть прямо сейчас! Ждать неделю незачем. Но всё по порядку. Сначала голосуем приговор. Если обвиняемый будет оправдан, тогда перейдем к выборам. Согласны?
Артель одобрительно зашумела.
– Хочу сказать только одно. Анархисту мораль нужнее, чем кому бы то ни было. Без твердых правил, без власти над самим собой, человек превращается в скотину. Теперь голосуем. Кто считает, что брат Невский виновен, поднимите руки. И помните, что ответ за такое преступление – смерть. Для приговора нужно две трети голосов.
К удивлению Фандорина, рук поднялось столько, что считать их не понадобилось. Все или почти все были за высшую меру наказания. Стало быть, черную правду они понимали иначе, чем Невский.
Актер снова вскочил и голосом покинутого всеми Лира возопил:
– Братья, опомнитесь! Вы анархисты или вы овцы? Братья!
Джики с размаху влепил ему оплеуху.
– Закрой паст! Ты нам болше нэ брат! Иды! В подвале тэбя кончу.
Схватил осужденного за ворот, уволок в дом.
Воля замахал рукой, призывая к тишине.
– Тихо, братья и сестры! Тихо! Суд окончен, но у меня важное объявление. Артель переходит на боевой режим. Отлучки и увольнительные отменяются. Десятники, соберите своих людей. Проверьте оружие. Рысь скажет, кому где расположиться. Приближается час третьей революции! Мы скинули царя, скинули Временное правительство, теперь скинем и диктатуру большевиков! Завтра «Дом анархии» станет штабом черной революции! Мы расколотим вдребезги звериную к
Страница 28
етку государства! Мы выпустим народ на свободу! Даешь свободу!– Даешь свободу! – заорали полторы сотни глоток.
И тут ночь взорвалась бешеным речитативом: да-да-да-да-да! Окна второго этажа полопались, вниз посыпались стеклянные осколки, со стен полетела штукатурка. Поверх голов собравшихся ударила длинная пулеметная очередь.
Потом наступила звонкая тишина, но длилась она недолго.
Зычный голос, усиленный рупором, крикнул из темноты, с той стороны ограды:
– Граждане анархисты! Вы окружены со всех сторон! Здесь батальон Красной гвардии с двенадцатью пулеметами! От имени Советской власти предлагаю сдаться! Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией нынче ночью разоружает Черную гвардию по всей Москве! Слышите?
Издали, с разных направлений, донеслись звуки пальбы. Где-то бухнула пушка, потом еще раз.
– Всех сложивших оружие мы отпустим! Но кто окажет сопротивление, будет уничтожен. Пять минут на размышление. Потом пеняйте на себя! Повторяю: пять минут…
Она нашлась!
Голос еще не умолк, когда Воля яростно закричал:
– Все по местам!!! Занять оборону!!!
Двор пришел в движение. Кто-то побежал к центральному крыльцу, кто-то кинулся к флигелям. Должно быть, в отряде существовала какая-то диспозиция на случай внезапного нападения.
Но красные пяти минут ждать не стали. Теперь пулемет открыл огонь прямо по толпе.
Москва после уличных боев
Эраст Петрович увидел, как валятся люди, истошно вопят, прижимаются к стенам.
Исход боя сомнений не вызывал. Анархистов застали врасплох, они были обречены.
В такой ситуации главное – не терять головы. Особенно если нет надежды на ноги. Поэтому Фандорин сначала прикинул, как работает пулеметчик (зигзагами слева направо, потом в обратном направлении). Когда дорожка пуль стала удаляться, Эраст Петрович небыстро поднялся по ступеням, перешагивая через трупы, и скрылся в доме.
Внутри тоже было неуютно. По зданию лупили со всех сторон. Всё трещало, грохотало и тряслось. Некоторые пули, пробив окна и двери, рикошетили по коридорам.
Из дома начали отстреливаться, но редко и недружно.
Пулеметы вдруг стихли. Тот же голос, приглушенный расстоянием, крикнул:
– Последнее предупреждение! Выходь с поднятыми руками, вашу мать! Не то всех положим, до последнего гада!
– Огонь, огонь! – закричал где-то, кажется, на втором этаже, Воля.
Стрельба возобновилась.
Надо как-то из этой кислой ситуации выбираться, размышлял Фандорин, пересекая открытые куски со всей доступной скоростью, а в более или менее защищенных местах замедляя ход. Красные воюют с черными, и это ради бога, аку ва аку-о куу, одно зло пожирает другое, но что тут делать благородному мужу, покинутому энергией Ки? Оставалась, правда, умственная энергия Тиноо. Она дала единственно верный совет: удалиться туда, куда не залетают пули, и подождать, когда закончится эта Сэкигахара. Долго она не продлится. Черногвардейцы пуляли из окон вслепую, в ночь как в копеечку, зато сама артель сияла огнями и представляла собой отличную мишень. Выключить электричество никто в суматохе не сообразил. Там и сям на полу валялись тела. Около одного Фандорин, нахмурившись, остановился.
Это был Джики. Рубашка на груди разорвана, кобура пуста. Голова вывернута набок, на затылке багровеет вертикальная вмятина. Кто-то схватил кавказца за горло и расколотил череп об угол. Нетрудно догадаться кто. Должно быть, при звуке выстрелов грузин отвлекся, и приговоренный не упустил такого шанса…
Не то амплуа себе выбрал господин Невский, мрачно подумал Эраст Петрович. Ему бы не героев-любовников исполнять, а хуаляней, трюкачей из китайского театра. Впрочем, деться из насквозь простреливаемого дома хуаляню все равно некуда. Свои увидят – пристрелят, красные тоже не пощадят. Акума с ним, предоставим ловкача собственной карме.
Наверху было людно. Основная часть бойцов собралась здесь, отступив с первого этажа. Судя по стрельбе и крикам, красные уже проникли туда, причем сразу в нескольких местах.
Воля переходил из комнаты в комнату, говорил стрелкам:
– Прощайте, братья! Помните: лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Прощайте… Помните… Прощайте… Помните…
В своем длинном плаще, с полуседой бородой он был похож на призрак отца Гамлета. И говорит то же самое, подумал Эраст Петрович: «Прощай и помни обо мне…»
За долговязым, тощим Волей преданно следовала маленькая Рысь.
– Пригнись, Арон, пригнись! – повторяла она, когда он проходил мимо очередного окна.
– Он такой неосторожный, он совсем не бережется, – сказал она, поймав взгляд Фандорина. – Знаете, я всегда об этом мечтала. Что мы с ним будем вместе до конца.
– Вы его любите, – удивился Эраст Петрович (вообще-то можно было сдедуктировать и раньше).
Девушка просто ответила:
– Люблю.
– Погодите, но вы же говорили: сейчас не время для любви?
Это прозвучало еще глупей.
– Я ему нужна. Он сам этого не знает, но я ему очень нужна. Он без меня пропадет, – ответила Рысь, как будто оправдываясь.
В женск
Страница 29
й психологии Фандорин разбирался, может быть, не очень хорошо, зато мужчин понимал отлично. Но он не стал говорить девочке, что людям вроде Воли никто не нужен. Это вечные одиночки.Эраст Петрович зачем-то продолжал идти за артельщиком и его спутницей. Может быть, потому что они двигались медленно, и он со своей палкой не отставал. Пуля пробила дверную филенку, осыпав его и Рысь щепками. Девушка рассеянно вытерла щеку.
– Знаете, сколько Арону лет?
– Полагаю, за пятьдесят.
– Тридцать семь. Из них семнадцать он провел в тюрьме, ссылке и на каторге, а там старятся вдвое быстрей. Представляете? Он самый свободный человек на свете, а его половину жизни продержали в клетке.
Огонь по зданию вдруг прекратился.
– Сдавайся, анархия! – Теперь трубный глас вещал откуда-то снизу. – Вам амба! Первый этаж наш! Нам нужен только Арон Воля! Остальных не тронем!
На втором этаже в ответ закричали – разное. Где-то: «Шиша выкуси!», а где-то: «Сдаемся, сдаемся, не стреляйте!»
Воля обернулся к Рыси.
– Принуждать никого не стану. Дело каждого. Кто хочет жить на коленях – пусть живет. Но меня они в клетку больше не посадят. Я наверх, на чердак. Буду стрелять, пока есть патроны!
Выдернул из футляра «маузер», побежал к лестнице.
– Я с тобой! – бросилась за ним Рысь.
В комнатах наперебой спорили уцелевшие – драться или нет. Никто не стрелял.
– Эй, погодите!
Эраст Петрович тоже направился к лестнице, но теперь те двое двигались быстро, не угнаться.
Шагая через две ступеньки, Воля поднялся до площадки между этажами, оглянулся на поспевавшую следом Рысь.
– Постойте! – позвал их Фандорин. – Совершенно необязательно…
Его слова потонули в грохоте. Кто-то все-таки открыл огонь, и по дому сызнова ударили пулеметные очереди и винтовочные залпы.
Сверху, прямо под ноги артельщику, упало и подскочило что-то маленькое, черное. Лимонка! Значит, чердак захвачен красными. Вероятно, они вскарабкались туда снаружи, по пожарной лестнице.
Дальше всё случилось в секунду.
Рысь схватила Волю за руку и толкнула с такой неженской силой, что тот, не устояв на ногах, кубарем покатился вниз по ступенькам. Потеряла равновесие и девушка, начала падать, но пола не коснулась. Взрыв подбросил ее маленькое тело, отшвырнул и впечатал в стену, враз покрывшуюся кровавыми брызгами.
Фандорин подхватил оглушенного падением Волю под руку, потащил прочь от лестницы. Красные не торопились спускаться. Бросили еще гранату, но та, попрыгав по ступеням, взорвалась уже впустую.
Артельщик шел на негнущихся ногах и всё оглядывался.
– Жалко. Она была настоящим бойцом… Неважно. Мы сейчас все погибнем.
– Не все. Слышите?
Теперь уже по всему этажу кричали:
– Сдаемся! Сдаемся!
– Ну так я один! – Воля потряс «маузером». – И стреляться не буду. Не доставлю большевикам такого удовольствия. Пусть сами убивают Арона Волю!
– Вам совершенно незачем погибать. Выберитесь во двор. Снаружи темно. Может быть, сумеете уйти.
– И что дальше? Ты же слышал, наших бьют по всему городу. Куда я денусь? Я не знаю Москвы. Я никого тут не знаю.
– Если прорветесь, идите на Покровку, в Малый Успенский переулок. Спрашивайте Сверчков переулок, его так чаще называют. Увидите двор за оградой, в глубине небольшой дом с колоннами. Постучите. Вам откроет японец. Покажете ему вот это. Дайте руку.
Фандорин достал химический карандаш, лизнул, написал на ладони артельщика по-японски: «Помоги ему».
– Что это за каракули?
– Волшебное заклинание, которое вас спасет… Бегите в угловой кабинет. Там у окна проходит водосточная труба. Сумеете спуститься?
– Я в одиннадцатом году бежал из Якутского централа – по веревке с крыши. А ты?
– Мне с трубой не совладать, – вздохнул Эраст Петрович. – Ничего. Не пропаду. Бегите же.
Артельщик сбросил на пол плащ. Побежал.
Снизу в рупор кричали:
– Выходь по одному, чернорылые! Руки кверху, морды книзу! Не бойсь, убивать не будем! Накостыляем маленько – и пинком за ворота!
Эта перспектива Фандорина не устраивала. Лучше переждать, пока тут всё утихнет. И он вернулся к первоначальному плану.
До хранилища надо было идти в самый конец коридора, и там повернуть за угол. Навстречу из дверей валили бледные, растерянные люди, многие в крови, кто-то еле шел. Красная правда оказалась сильнее черной, думал Эраст Петрович. Что естественно, поскольку при прямом столкновении индивидуализма с коллективизмом у первого нет шансов на победу.
За поворотом, то есть уже во флигеле, коридор был темен и пуст. На стене, под которой пал художник-часовой, корячилась грудастая анархистская Венера.
Фандорин вошел в темную комнату, плотно прикрыл за собой дверь, стал шарить по стене в поисках выключателя. Тот, кажется, находился где-то справа. А, вот.
Вспыхнул свет.
За спиной раздался радостно изумленный голос:
– Глядите, кто пожаловал!
На столе, сложив ноги по-турецки, сидел, щурился от яркого света Невский.
– Великие умы мыслят сходно. Тоже сообразили, что сюда пули не залетают? Надо ж
Страница 30
, какая удача! Сижу тихо, жду, и труп врага приплыл сам!Актер соскочил на пол, шутовски раскинул руки, будто для объятий. Продекламировал:
Сколь месть сладка, о боги-судии!
Подобно мёду услаждает душу!
При слове «удача» Фандорин поморщился. Ветреница что-то зачастила с изменами.
Невский хищно улыбался.
– Покрасовались? Поигрались в суд? Теперь судьей буду я. Объявляю приговор сразу, без волокиты. «Повинен смерти ты, отродье Вельзевула!» – Он величественно воздел руку и повернул большой палец книзу. – Чем бы вас прикончить, мсье Фандорин? Хочется подобрать что-нибудь эффектное.
Он взял со стола серебряный канделябр, повертел – отставил.
– Нет, это тривиально… Вот то, что надо! Орудие божьего гнева. – Поднял массивное восьмиконечное распятье. – Гарантирую моментальное отпущение всех грехов. Или чем-то другим? Прямо даже не знаю. Глаза разбегаются…
Невский лицедействовал, изображал задумчивость, тянул паузу – наслаждался минутой.
– Нет! Решено! Вы – благородный идальго и имеете право погибнуть от меча!
Взял со стола георгиевскую наградную саблю с золотым эфесом, обнажил клинок. На полированной стали сверкнули блики.
Заветный меч, булатный побратим,
Отправь злодея ныне в преисподню!
Георгиевская сабля
Фандорин прикинул, не попробовать ли дотянуться до шута тростью. Нет, не стоило и пытаться. Сильного и быстрого удара не получится, а выглядеть жалким не хотелось. Лучше принять смерть без суеты.
Невский явно обучался сценическому фехтованию. Он изобразил саблей какие-то замысловатые, изящные кренделя в воздухе, потом сделал выпад – Эраст Петрович инстинктивно отшатнулся, иначе острие пропороло бы ему грудь. Попятился. Уперся спиной в шкаф.
Актер злорадно улыбнулся:
– Ага, вы все-таки не каменный. Подыхать не хотите. Но придется, никуда не денетесь. Сейчас я медленно и с удовольствием пришпилю вас к дереву. Как бабочку в коллекции, иголкой через брюшко.
Он опустил клинок ниже, до живота. Надавил.
Острая боль пронзила тело, а Невский еще и слегка покрутил рукоятку, расширяя ранку.
– Мы ведь не будем торопиться, правда? Это так приятно!
Кулаком не дотянусь, думал Фандорин. Ногой можно бы достать, но ее не поднимешь. Стоять и не шевелиться. Главное не застонать, не вскрикнуть. Преодоление боли – одна из радостей самурая.
Но было не только больно. В животе, в самой глубине тела, происходило что-то еще, какое-то странное щекотание, словно там в самом деле затрепыхала крылышками бабочка. Эраст Петрович перестал обращать внимание на болтовню сяожэня, стал прислушиваться к себе.
Неужели… Неужели это она? Так вот где она спряталась!
Разумеется, где же еще ей быть? Хара – вместилище жизненной силы. Когда самурай хочет выпустить ее наружу, он взрезает себе живот. Укол стали пробудил энергию Ки. Она просыпается!
Изнутри струился ток, с каждым мгновением усиливаясь. Боли больше не было, лишь звенящая, наполняющая всё существо вибрация.
Радостно засмеявшись, Фандорин схватил рукой лезвие. Его край не был острым – кто натачивает парадную саблю?
Невский заткнулся. Удивленно приподнял брови. Попытался вдавить клинок – тот не сдвинулся ни на йоту. Попробовал дернуть на себя – тоже не получилось.
– Что за фокусы… – пробормотал он.
И вдруг выпустил рукоятку. Отскочил к противоположной стене, тоже сверху донизу занятой шкафами. Выхватил пистолет.
– Черт с тобой! Подохни попросту, от пули!
Эрасту Петровичу казалось, что движения врага странно замедленны: Невский очень плавно отдаляется, долго тянет из кармана оружие, «браунинг» цепляется за ткань, небыстро высвобождается. Легко можно было вышибить пистолет или сбить неуклюжего болвана с ног. Но торопиться не хотелось. Соскучившееся по скорости тело просило острых ощущений.
Вот Невский навел дуло, целя прямо в лоб. Фандорин не шевелился, только улыбался. По животу под рубашкой стекала щекотная струйка крови. Это было приятно. Вся карада искрилась жизнью, словно только что налитое шампанское пузырьками.
«Браунинг» выплюнул огненное жало. Голова Фандорина, будто сама собой, качнулась в сторону. Пуля с хрустом впилась в дерево.
Руки тоже действовали без команды, слаженно и быстро.
Левая перевернула саблю эфесом к себе, подкинула. Правая перехватила, метнула коротким, точным броском.
Прозвучал еще один выстрел. Вторая пуля прошла в миллиметре от фандоринского уха.
И пистолет ударился об пол.
Невский косил глаза книзу, будто хотел там что-то рассмотреть и не мог. А рассматривать было что. Сабля насквозь пронзила актеру горло и вошла в дверцу шкафа до половины.
– Ну и кто из нас б-бабочка? – спросил Эраст Петрович.
Руки умирающего схватились за рукоятку – и упали. Глаза закрылись. Тело обмякло, но осталось висеть.
Фандорин уже не смотрел на мертвеца. Он посжимал-поразжимал пальцы. Присел и подпрыгнул – сначала не очень высоко, потом еще раз, метра на полтора. Ударил кулаком по краю стола. Подломились ножки, столешница покосилась, с нее звонко покатились
Страница 31
убки, подсвечники, прочая сверкающая чепуха.– То-то же, – сказал Эраст Петрович энергии Ки. – И больше д-дурака не валяй.
Опять заикаюсь, вдруг понял он. Совсем без инвалидства нельзя? Ладно, лучше заикаться с энергией Ки, чем разливаться соловьем из кресла-каталки.
Он выглянул за дверь. Прислушался.
Кто-то вдали командовал:
– Обыскать все помещения! Где у них тут награбленное? Поставить караул! Нашли Волю?
Легко и неслышно ступая, Фандорин прошел по коридору, выглянул из-за угла.
Командовал пышноусый коротышка в кожаной фуражке с красной звездой. Повсюду были люди – подбирали брошенное оружие, волокли мертвых, осматривали комнаты. Через минуту-другую должны были добраться и до флигеля.
Эраст Петрович дожидаться не стал.
Он вошел в первую же дверь, распахнул окно и, перемахнув через подоконник, без колебаний спрыгнул в темноту.
Как хорошо!
Красная правда
Вечека и Чеквалап
У ограды большой барской усадьбы на Поварской остановился извозтрудящийся, как теперь называли «ванек». Обернулся к седоку, перекрестился.
– Вот он, бывший графа Сологуба. Госсподи, не чаял живым добраться.
– Да, весело живете, москвичи, – сказал седок, молодой военный, спрыгивая на тротуар.
Время было рассветное, сумеречное, но город в минувшую ночь не спал. Сразу в нескольких местах густо стреляли, неслись куда-то грузовики с вооруженными людьми, а когда проезжали Самотеку, по мостовой с дроботом промолотила пулеметная очередь.
– На. Как договаривались.
Военный не глядя сунул вознице кредитку. Тот внимательно осмотрел пассажира, задержавшись взглядом на следах споротых погон.
– Сто рублей прибавить надо. Что страху-то натерпелся.
– Ага. И штаны с сапогами. Уговор есть уговор.
Молодой человек – он был высокий, светловолосый, подтянутый – взял с сиденья саквояж.
– Гляди, ваше благородие. – У извозчика сузились глаза. – Тут теперь знаешь чего? Чека. – Он кивнул на часового у распахнутых ворот. – Сейчас вот скажу, что ты вел вражеские разговоры. Я пролетарий, мне от власти доверие.
– Дерьма ты кусок, а не пролетарий. Вообще ничего не получишь.
Блондин спрятал бумажку обратно в карман.
«Ванька» разинул рот – заорать, но поглядел еще внимательней и передумал. В лице у молодого человека было какое-то не очень понятное, но тревожное противоречие. Яркие васильковые глаза смотрели вроде бы весело, но у рта пролегла твердая, угрюмая складка, на виске белел косой шрам, а еще один, неровный, самым кончиком выглядывал из-за воротника. Очень возможно, что военный был не так уж и молод.
Шепотом выматерившись, извозтрудящийся хлестнул клячу, а пассажир надел фуражку, которую доселе держал в руке, и оказалось, что он никакое не благородие, а красный командир – на околыше алела матерчатая звезда. Подошел к часовому и хрипловатым, привыкшим командовать голосом спросил:
– Где тут найти товарища Орлова?
– Проходи, там скажут.
– И документ не спросишь? – удивился военный.
– На кой? – Часовой зевнул. – К нам посторонние не ходят.
Покачав головой, краском пошел через широкий двор, с двух сторон стиснутый флигелями. Из одного, правого, вдруг повалили люди с винтовками. Первый, должно быть, начальник, оборачиваясь, кричал:
– Машин больше нет, товарищи! Придется бегом! Шевели ногами, мать вашу!
Протопали мимо. Лица у всех хмурые, усталые.
– Что-то Наташи не видать, – пробормотал блондин, провожая их взглядом. Учитель словесности в гимназии рассказывал про особняк на Поварской, что это и есть дом графов Ростовых из романа «Война и мир». Теперь к двери был криво приколочен фанерный щит, на нем белой краской, тоже криво: «Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем».
Войдя в вестибюль, посетитель поморщился. Порядка не было и здесь. У стола с табличкой «Дежурный» сгрудилась толпа, все наперебой что-то говорили, измученный человек в расстегнутом кителе отмахивался от них, кричал сорванным голосом в телефон:
– Подкрепление? Полчаса как отправили… Почем я знаю где?
Было ясно, что тут ничего не добьешься.
Терпение не входило в число достоинств блондина. Он нахмурил золотистые брови еще сердитей, повертел головой, высматривая кого-нибудь пригодного, – и быстрым, точным движением уцепил за локоть бегущего рысцой порученца с бумагами.
– Товарищ, где тут у вас Орлов?
Порученец, не оборачиваясь, дернул руку, но не высвободился и лишь тогда оглянулся.
– Зачем тебе товарищ Орлов? Ты кто? – И тоже, как давеча извозчик, задержался взглядом на плечах военного.
– Я тот, кому нужен Орлов. А зачем – я расскажу ему. Проводи-ка меня к нему, товарищ, будь ласков.
Пальцы у неизвестного были железные, а голос хоть и тихий, но какой-то очень убедительный. Сотрудник ЧК сразу стал вежлив.
– Идемте, это на втором.
Пошли вверх по лестнице.
– Что это у вас пальба по всему городу? – спросил краском. – Где-то даже трехдюймовка шарашила.
– Черную гвардию кончаем. Надоели, бузотеры… Эй, Крюков!
Страница 32
Тут товарищ к Орлову! – крикнул сотрудник на пороге секретарской, но внутри никого не было. – Вышел куда-то… – Порученец прислушался к голосу, доносившемуся из-за двери. – Вы дождитесь, когда товарищ Орлов кончит по телефону говорить, и заходите.И вдруг спохватился, что привел к начальнику непонятно кого.
– Ваша как фамилия? Вы откуда?
– Я Романов. Вызван с Псковского фронта телеграммой, – ответил военный. – «Явиться в ВЧК к Орлову». Что за «ве-че-ка» такая, знать не знал, но приказ есть приказ. Явился.
За дверью в это время как раз шла разъяснительная работа по поводу того, что такое ВЧК.
Хозяин кабинета, мужчина лет сорока с короткой бородкой, в солдатской гимнастерке под кожаной курткой, потирая веки, втолковывал комиссару Центральной телефонной станции:
– Крошкин, долго еще твои телефонистки будут путать ВеЧеКа и Чеквалап? У нас тут аврал, судьба революции решается, а мне через раз звонят: «Это Чеквалап? Чрезвычайная комиссия по снабжению валенками и лаптями?» Собери своих дур и вколоти им, что такое ВЧК… Сам знаю, что из Питера переехало много новых учреждений, к названиям никто не привык. Но наше учреждение с другими пусть не путают. Гляди, Крошкин. Еще один звонок про валенки, и я твою башку в валенок засуну, понял?
Бухнул трубкой. Засмеялся. Потер бородку.
Снова зазвонил аппарат. На сей раз ошибки не было, телефонировал командир отряда, посланного ликвидировать анархистскую артель «Свобода», второй по важности оплот черногвардейцев.
– Ушшшел, ушшел! Иззззмена! – яростно зашипела и зазудела трубка. – У тебя, Орлов, в ЧК предатель!
– Спокойно, Шилейкис, без драматических эффектов. Что не так? Кто ушел? Ты артель разоружил или нет?
Орлов подавил зевок. У него выдалась вторая бессонная ночь подряд: с десятого на одиннадцатое на коллегии до утра разрабатывали план ликвидации, а минувшей ночью было тем более не до отдыха.
– Артель-то мы разоружили, потери – чепуха, шестеро раненых. Но Арон Воля ушел! – закричал Шилейкис, срываясь на хрип. Он был старый партиец, надежный, только немного нервный. – Мы всё перевернули, нет Воли! Я заранее поставил вокруг оцепление из твоих, одни чекисты. И какой-то гад его пропустил! Орлов, у тебя предатель!
Не выпуская трубки, хозяин кабинета наклонился над картой города, где двадцатью шестью черными кружками были помечены черногвардейские базы, и красным карандашом поставил крест еще на одной. Теперь неперечеркнутых оставалось только три.
– Успокойся, Шилейкис. Твои латыши свое дело сделали. Молодцы. А предателей у меня нету. Это я приказал Волю не задерживать.
– Что?! – охнула трубка.
– Сам подумай. Ну, шлепнули бы мы полоумного Арона. Вони бы было на всю мировую анархию. Судить его – того хуже. Пусть катится на все четыре. Без своей артели он не опасен… Короче так, Шилейкис. Я знаю, твои ребята устали, но на Дмитровке нужна подмога. Мы уже из пушки по ним лупим – не сдаются. Двигай туда, пособи. Всё, действуй.
Разъединился. Позвал:
– Крюков!
Дверь открылась, но вместо помощника вошел бравый командир в офицерской шинели без погон и ужасно удивился:
– Гвоздь, ты?!
Жесткое, насмешливое лицо человека с бородкой помягчело. Орлов посетителю не удивился, но, кажется, был ему сильно рад.
– Я, я. Заходи, штабс-капитан.
Обнялись.
– Погоди, так Орлов – это ты? – всё не мог опомниться Романов. – А я в толк не возьму, кто это меня вызывает… Но почему ты стал Орлов?
– Время такое. При Николашке брал себе прозвища тоже птичьи, но мелкие – шмыг туда Грачом, шмыг сюда Дроздом или Дятлом. При Временном стал Гвоздь, потому что прибить их надо было. А теперь власть наша, парим по-орлиному. Всё небо наше, летай не хочу…
Они стояли, с удовольствием разглядывая друг друга.
– Это сильно здо?рово, Романов, что ты явился.
Ты мне вот как нужен. – Орлов провел ребром ладони по горлу. – Но сначала расскажи, командир, как с немцами повоевал.
– Хреново повоевал. – Вошедший махнул рукой. – Ни к черту наша красная гвардия не годится. Какая может быть гвардия, когда армии нет? Сам знаешь, все срока демобилизованы. Солдаты разошлись по домам… Глупость это. С немцами нам все равно воевать придется, Брестскому миру грош цена. А значит, нужна нормальная русская армия.
– Нет никаких немцев и русских, есть наши и не наши. – Орлов ткнул старого знакомца пальцем в лоб. – Вколоти ты это наконец в свою офицерскую башку. Немецкие рабочие – это наши люди. И скоро они будут вместе с нами. А нормальная армия у нас будет. Красная армия. Был на то указ Совнаркома. Всему свое время. Мы еще только разворачиваемся.
Засмеялся, потянулся.
– Чего ты такой довольный? – недоуменно спросил его Романов. – Фронт развалился, в Москве драка, у тебя в твоей комиссии бедлам, а ты скалишься.
– Я довольный, Леша, потому что я счастлив. Одного только боюсь – что проснусь утром, а всё окажется сном. Наша революция, наша победа – всё. Ведь какого слона, какого мамонта завалили! Небывалое в истории дело! Знаешь, я никогда не понимал, как
Страница 33
то людям бывает жить скучно. Мне всегда интересно было. Но чтобы так, как теперь? Чернышевский, сон Веры Павловны! Жюль Верн, «Из пушки на Луну»! – Орлов опять засмеялся, блеснув крепкими белыми зубами. – Ты тоже на скучающего не похож. Погодишь пока стреляться? Помнишь, как летом-то, под Сморгонью, а? Еле я тогда успел тебя за руку ухватить. И потом два дня от себя не отпускал.Лицо у Романова словно окаменело, но ненадолго, на секунду-другую. Он ответил шуткой:
– «И сия рек, гласом великим воззва: Лазаре, гряди вон!» И встал я, и пошел.
Орлов посмотрел на него очень серьезно, сам себе кивнул.
– Вижу. Вопрос «быть или не быть» с повестки дня тобою снят. Это правильно.
А коли надоест жить – зачем самому утруждаться? Желающих помочь в этом деле сколько угодно. Вот мы нынче ночью ссадили попутчиков-анархистов. Потом, чую, дойдет очередь и до эсэров. Революция – кобыла норовистая, больше одного всадника не повезет. И не факт, что один-то в седле удержится. Вот об этом я и хочу с тобой потолковать, господин штабс-капитан. Садись, в ногах правды нет.
Коллегия ВЧК
Романов сел, приготовился слушать. Веселости в хозяине кабинета не осталось совсем, одна озабоченность.
– Анархисты с эсэрами – ладно, с ними разберемся. Немцам пока тоже не до нас, их Антанта с американцами догрызают. Хуже то, что сидит наша красная власть пока некрепко. Мы почему правительство из Питера в Москву перевезли? Потому что Петроград – враждебный нам город. Там дворян, купцов, чиновников и прочей «чистой публики» чуть не четверть населения. В октябре мы их взяли врасплох, но там как на дремлющем вулкане. В Москве пропорция получше, однако тоже непросто. Считается, что одних бывших офицеров здесь не меньше сорока тысяч. И большинство, конечно, спят и видят, как бы нам выпустить кишки. Теперь представь, что некая решительная и целеустремленная сила сумеет организовать этих враждебных нам людей в один кулак. Стукнут – от нас мокрое место останется. Нас в ВЧК знаешь сколько? Сто двадцать сотрудников, а опытных, кто умеет разоблачать заговоры, – ноль. Конспираторов-подпольщиков вроде меня хватает, но мы ведь к чему приучены? Не искать, а прятаться, не догонять, а убегать. Понял теперь, почему я тебя с фронта вызвал?
– Потому что я служил в контрразведке. Но я ловил немецких и австрийских шпионов, а не заговорщиков. Там другая специфика. По заговорщикам – это Охранное отделение.
– Ну извини, – развел руками Орлов. – Из Охранки у меня никто не работает. Ты что, отказываешься?
Романов вздохнул.
– Я тебе тогда, под Сморгонью, сказал и сейчас повторю. Я свой выбор сделал. Я с революцией. Говори, чего конкретно от меня хочешь?
– Тебе эта служба не понравится, – предупредил Орлов.
– Не беспокойся, я барышня с прошлым. Думаешь, мне в контрразведке нравилось? Дело кровавое, грязное.
Не постучавшись, развалистой походкой вошел широколицый чернявый человек в ремнях крест-накрест.
– Кончено с Дмитровкой. Сдались, гады, – сказал он. – Всё, товарищ Орлов. Можешь докладывать.
– Ага. – Орлов подмигнул. – Гляди, кто у нас.
– Здоро?во, Крюков. И ты здесь?
Романов пожал вошедшему руку.
– А где мне быть? Где он, там и я.
– И уже не ефрейтор. – Бывший штабс-капитан с любопытством смотрел на бывшего ефрейтора – тот сильно переменился. – Чиновник особых поручений при большом начальнике. Кстати, кто ты, Орлов, теперь по чину?
– У нас чинов нет. Я – член коллегии ВЧК, Крюков – мой помощник.
– А кем буду я?
– Контриком. По нашим данным, офицерский заговор уже существует и активно расширяется. Нам нужно внедрить в подпольную организацию своего человека. Понятно, офицера. Понял теперь, что от тебя требуется?
Романов насупился, по лбу прорисовалась резкая морщина.
– Нет. Филерствовать не буду. Я с этими людьми вчера воевал вместе. Втереться к ним в доверие, а потом донести?
– Я тебе говорил, откажется, – скривил рот Крюков. – Они для него свои. Офицер – он всегда офицер.
– Помолчи, Тимофей, – одернул его Орлов. – Леша, скажи: ты в Бога веришь?
От неожиданного вопроса Романов сморгнул.
– Нет. А при чем тут это?
– Тогда второй вопрос. Как мир устроен, тебе нравится?
– Кому это может понравиться?
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Сноски
1
Убью! (яп.)
2
Не ори так (яп.).
3
Заткнись. Голова болит (яп.).


