Читать онлайн “Знак Каина” «Борис Акунин»
- 02.02
- 0
- 0
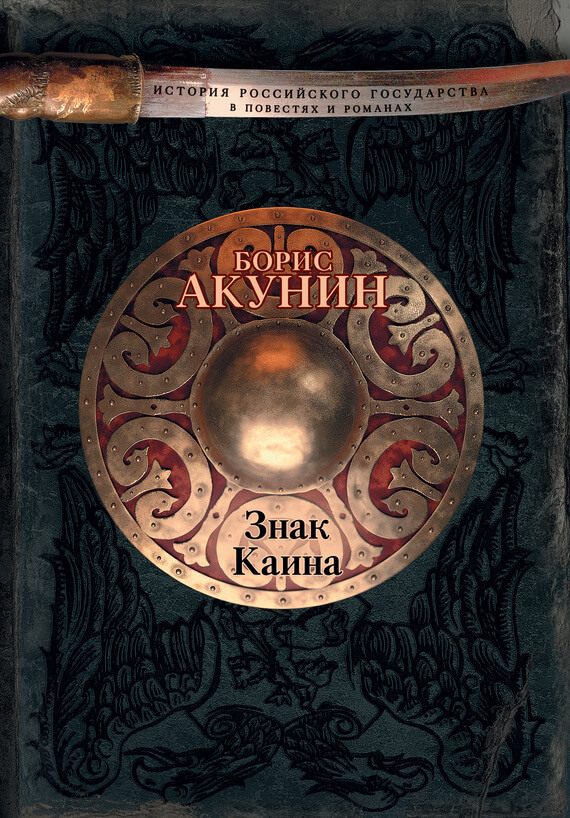
Страница 1
Знак КаинаБорис Акунин
История Российского государства в романах и повестях
«Я всегда это знал: я один из всех человеков чувствую боль по-настоящему. Такое мне испытание от Господа. Прочие на пытке и визжат, и бабьим голосом орут, а все притворство. Им бы, как мне, один денек головной болезнью помаяться…» Повесть «Знак Каина», часть проекта Бориса Акунина «История Российского государства», описывает один день из жизни Иоанна Васильевича, царя, прозванного Грозным. Целая страна оказалась в заложниках его безумия, хотя сам он считал, что лишь исполняет высшую волю: «И делается мне по душевной моей благости умилительно. Вот ведь нередко бранюсь я, неблагодарный, на народ мой, а русский народ всех прочих языков возвышенней, Божьей воле и государю своему покорней. Поляки или немцы, да те же татаре давно взбунтовались бы, не стерпев испытаний – и тем огневили бы Господа, и погубили бы свои души. А мои голуби терпят и мою ярость, и мое окаянство. За то и спасутся».
Борис Акунин
Знак Каина
Прелестное видение
© B. Akunin, автор, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Об Иове Многомученике
– …А с Пучежа ехано вверх на Юрьевец, и ехали долго, два дня и еще полдня, яко дорога от нехожести вся заросла бурьянами. А поля в той стороне тож все неубраны, деревни пусты, и не встретилось нам за все за два с половиною дня ни единого жива человека. А и Юрьевец, когда доехали, тож стоит запущен. Домы есть, а людей нету, а которые есть – лежат в до?мах мертвы, и на улицах тож лежат, и смрад великий, ибо от сыпного того поветрия, как я уже сказывал, человеки покрываются гнойными язвами и заживо тлеют, а когда издохнут, не жрет их ни зверь, ни птица – брезгуют…
Голос у Федорца скрипучий, дребезгливый, нудный. Будто всверливается в самый мозг с двух сторон. Ох, голова моя, головушка! Ох мука мучительская! Страдал ли кто когда такими страданьями, яко аз, несчастный? Чтоб с самого утра в глазах от дневного света резь, и всяк запах уксусен, и всяк звук мерзостен, и чтоб тошнило, да не проташнивало? Лежать не улежишь, стоять не устоишь. Выехал верхий в поля – лицо ветром обдуть, но в седле тряско, от коня несет кислым потом, копыта по грязи чавкают, словно кто прямо в уши натолкал бумагу и там ее комкает, комкает… А еще Федорца слушай. Идет, терзатель, у конского бока, заглядывает в свою берестяную запись и нудит, нудит.
За что столь жестоко караешь меня, Господи? И головной дневною мукою, и бессонным ночным метанием, и изжогою адовой, и брюшным запором – шестой день живу не опростан, нутро – яко глыба каменна! Еще вот и людишки по всей волжской стороне перемерли, и кто будет сеять хлеб, платить подати?
Да что вопрошать? Ведаю, ведаю, чем я Тебя прогневал. Пес я смердящий, во тьме гордости, невоздержания и всякого злодейства заблудший, Гелиогабала мерзостями своими затмивший. Поделом мне все Твои казни, и даже мало. Потому и не ропщу, принимаю кару Твою со смирением.
– …И так ехано по волжскому по берегу до Елнать-реки, и нигде никого живого не встречено. Вся тамошняя земля от мора стоит пуста. Пашни брошены, скотину бессмотренну пожрали волки, а люди все по воле Божьей примерли. А за Елнать-рекой, как было велено, переправились мы на заволжскую сторону, стали там смотреть. И в Заволжье мора нету, но случилась там иная напасть, доселе невиданная. Во августе во месяце, когда скоро жито жать, вышла из лесов на поля малая мышь, бессчетными сонмищами. И, сказывают, стала вся земля от края до края от мыши сера и шевелиста, ибо ползла та мелкая тварь сплошной сплошнотой, и пожирала всякую травинку и всякий колос, и остановить ее не было мочи. Так ползла она день и еще день, обглодала все жито до корешка, и сошла в Волгу, и перетопла, а людишки все разошлись неведомо куда, ради гладной нужи спасения, чтоб пустобрюхи не помереть, но никто не спасся, ибо хлеба не было нигде. Которые на правый берег переплыли – померли от сыпного мора. Которые убегли в леса – тех порезали лесные язычники. И ныне на Волге безлюдно, что по той стороне, что по этой…
Неужто я хуже фараона, Господи? На него ты насылал жаб, кои излезоша из вод и покрыша землю Египетскую, но не карал мышью всепожирающей. Что жабы? Поквакали да сгинули, а пустые бесколосные поля, бестравные луга – случалась ли на земле кара страшнее? И голова болит, голова…
– …А в Быкове-городце встретился нам только один человек, и тот был безумный. Кричал про тебя непотребное, и за то убили мы его до смерти, так что и в Быкове ныне никого нет. Только в городе в Костроме, переправившись обратно, видали мы малое количество живых. Из прежних шести тыщ остались после мора стодванадесять человек, горько плакася и не зная, чем зиму зимовать…
Умолкни, палач! «Ззззиму зззимовать» – как спицей раскаленной в висок! Яко у многомученика Иова всякий вздох мой тягостен, всякий миг исполнен яда!
И вдруг является мне видение. Будто возношусь я в небо, под облака, и вижу оттуда всю Русскую землю. Города в ней – как муравейники, с
Страница 2
ла – как серые пятнышки. И копошатся там букашки-муравьишки, без толку и смысла, и пищат писклявыми голосишками. Всё-то жалуются, за животишки свои боятся, перебирают кто меж ними жив, а кто помер, и плачут, плачут, а многие и ропщут.Эх вы, букахи малые, неблагодарные! Эх вы, сироты неразумные! Не понимаете, что мною одним живы. Вот сжалится надо мною Господь, приберет меня многогрешного, и вам всем тоже конец. Давно мне это открылось, только не говорю вам, вас же жалеючи: меня не станет, и света не станет. Будет Страшный Суд. То-то взвоете! А ведь есть средь вас, глупых дураков, такие, кто моей смерти желает. Вчера близ Слободы еще двоих с ножами взяли. Ныне воскресенье, день Божий, и расспрашивать их грех. Завтра спознаем, кем посланы…
Поднимаемся на малый холм, откуда видно всю Слободу, освещенную позднеполуденным осенним солнцем.
Вот он предо мною, мой Град Небесный. Конечно, не тот, из Откровения, у коего стена из ясписа, а сам он чистое золото и стекло (тому быть рано, и не мне, убогому, его строить), а все же мой град – лучший из возможных на сирой земле.
На Слободу всегда смотреть утешительно, но ныне от муки телесной, от терзания души, от дурных вестей и это милое зрелище не в радость.
А Федорец все вкручивает, все всверливает, все каркает.
– …Пуста стоит твоя земля, государь. Орать ее некому, дани собирать не с кого, нигде хлеба краюхи не сыскать. Весь край тот обескровленный…
Каррр, каррр, каррр!
Нет больше мочи слушать! Заткнуть, заткнуть ворона!
У меня в очах, и без того смутных, густеет, чернеет лютая ярость, рука сама выдергивает из-за пояса татарский кинжал. Перегибаюсь с седла, хватаю Федорца левой рукой за темя и вонзаю клинок прямо в поганую пасть – по рукоятку, с красными брызгами и зубными осколками.
– Кляп те в грызло, ворон!
От собственного крика в голове будто взрывается пороховая мина – и я хриплю от боли.
Федорец тоже хрипит. Глазные яблоки у него выпучиваются, опускаются зраками книзу – на выросший из-под носа дивный рог, ибо у кинжала рукоять резного турьего рога, обвитая златою нитью.
Ишь, удивился!
Малость похрипев, Федорец булькает, а глаза закатывает под самый лоб – и до того его рожа потешна, что мой гневный рык переходит в хохот. Я смеюсь, не могу остановиться, и эта тряска, эта судорога вытягивает из меня всю силу, так что не усидеть в седле.
Машу рукой: стелите, стелите!
Привычные слуги принимают меня, трясущегося, на руки, мягко кладут на разложенный тюфяк – он всегда приторочен на крупе у ближнего рынды.
Уже на земле, под собольей полостью, я еще какое-то время сотрясаюсь, глядя вверх, на высокое, прекрасное, грозное небо. Туда, туда стремится измученная душа моя, а обрыдлое тело пусть бы себе осталось на земле…
На краткий миг я закрываю очи, а когда открываю их вновь, то я уже не здесь, не на холме, где тревожно галдят слуги и воет октябрьский ветер, а в мире ином, беззвучно тихом.
Об одолении великанов
Но в тихом не отрадно, а страшно.
Я маленький-маленький. Сижу съеженный в великом-превеликом кресле – подлокотник вровень с моим плечом. Я – не я и даже не человек, а кресло никакое не кресло.
Я никчемный грибок поганка, расту на лесном пне. Тяжелая шляпка своим краем закрывает всю верхнюю половину белого света, а в нижнюю ее половину смотреть я боюсь.
Там великаны. Они стоят полукругом и на меня, жалкого и маленького, смотрят. Они чего-то от меня ждут.
Великаны зверолики, свирепоужасны. Башки их огромны, вытянуты кверху трубами; брады свисают густыми серыми паутинами; очи алчны и злобны.
Сейчас накинутся, сейчас!
Убежать бы, но не пошевельнешься – я прирос к пню.
Позвать бы на помощь, но некого. Я всеми брошен в сем диком лесу, в сей темной чащобе.
– Матушка! Маменька! – хочу я крикнуть, но губы не шевелятся. Я не только бездвижен, но бессловесен. И это всегда так, когда мне снится страшное: не могу ни двинуться, ни крикнуть.
– Вздень подбородок! Глянь смело! Подыми десницу! Восстань! – шепчет мне откуда-то тихий глас. Он единственный мне заступник, но он может только шептать. На него не обопрешься, за него не спрячешься.
Великий страх стискивает мое поганочье нутро. Великаны же все грознее супят косматые брови, переглядываются меж собой. Сейчас сорвут меня с пня! Сейчас растопчут!
А некоторые уж подались вперед. Вот-вот накинутся!
От ужаса я обмачиваюсь. Снизу становится горячо и сыро.
– Восстань! – повторяет голос. – Подымись! Не то пропадешь!
Но я безгласен и бессилен, как бессильна и тщетноропотна всяка тленна тварь перед своею Судьбой.
– Ты помазан Мною! Встань, не то отвернусь от тебя!
Глас кричит шепотом – оказывается, такое бывает. Это когда средь великого людского множества крик слышен лишь тебе одному.
Меня охватывает трепет. Великаны страшны, но еще страшнее от мысли, что невидимый тихокричащий замолчит и от меня отвернется. Тогда я останусь вовсе никому не нужен.
И я напрягаю все свои силы, я отрываюсь от пня, я встаю. Пог
Страница 3
ночья ножка дрожит, но не подламывается, руки же у меня обычные, человечьи, и в правой невесть откуда взялся сияющий жезл, от него истекает волшебный свет.Нападайте, великаны! Я не дамся без битвы!
И свершается чудо.
Оттого что я поднялся, я стал выше, а великаны ниже. Они не бросаются на меня, а съеживаются, склоняются, простираются ниц.
Я победил их! Я не поганка! Я пылающий, но неопалимый терновник, озаряющий мрак чащи, яко горит огнем, но не сгораше, и свет мой столь ярок, что на меня больно смотреть!
Я наслаждаюсь своим переливчатым сиянием, и мгновение превращается в вечность.
О рабе бесстрашном
Обычно, очнувшись от сна, открываешь глаза и попадаешь из тьмы в утренний свет, а тут все наоборот: из лучезарного света я оказываюсь в черной черноте и пугаюсь. Страх этот привычный, ночной – когда вскинешься на постели в глухой час и думаешь: неужто всё, Господи, неужто конец? Неужто душа моя отлетела из тела, и се – последняя бездна, про которую речено: «Тьма кромешная, где плач и скрежет зубовный»?
Но сверху надо мной, лежащим, из темноты сгущается еще пущая темнота, круглая. Чья-то голова склоняется надо мной.
– Проснулся, государь?
Малюта.
Так это просто стемнело, пока я спал! Наступил осенний вечер, а может уже и ночь. Безлунно, беззвездно. Я лежу на тюфяке, укрытый шубой, и надо мной нагнулся Малюта.
Я смеюсь. Я говорю легко:
– А ты думал, Лукьяныч, я помер?
Мне хорошо. Мне очень хорошо. Голова не болит, тело не ломит, тошнота прошла.
Он ворчит:
– Рано тебе помирать. Не всех ты еще верных слуг перегубил. За что Федорца сработал? Чем он перед тобой виноват? Много, что ли, у тебя честных да исправных холопов? Глянь вокруг на твоих опричничков! Шпынь на трутне сидит, пьянью погоняет, а Федорец и вина не пил. Себя на твоей службе не жалел, старался.
Я окончательно просыпаюсь. Вспоминаю: напало неистовство, и оборвал я скрипучий голос ударом кинжала. Еще один грех, еще одна перед Господом вина.
А можно и иначе посмотреть: нет ничего такого, что свершилось бы не по воле Божией. Коли свершилось – знать, так тому и должно.
– Не я это, Малютушка. Бог на Федорца прогневался, руку мою направил. За что – даже я, царь, не ведаю. Где уж тебе знать? Не нами, не нами судьба человеческая решается. Помоги-тко, Лукьяныч.
Сам Малюта ростом мал, потому и прозвище, но руки у него длинные, сильные. Ловко, а в то же время и бережно он ставит меня на ноги. Ведет к коню. Один рында встает на четвереньки – чтоб мне ногой ему на спину опереться, еще двое берут меня под локти.
Ах, хорошо-то как! Голова ясная, свежая! А еще – вот милость Господня – в брюхе ощущается некое отрадное шевеление и даже рокотание.
– Погодите!
Неужто сжалился Всевышний? Прислушиваюсь к себе. Так и есть!
– Порты с меня, живо!
А порты-то сырые, только сейчас это чувствую. Не приснилось, что обмочился. Со мной часто бывает, если примнится страшное. А страшное мне снится через ночь. Одну ночь вовсе не сплю, а другую – усну, да зрю ужасы.
Ох, облегчение великое! Ох, счастье несказанное! Опростался наконец, слава апостолам!
Слуги обмывают мне гузно, обтирают бархатной тряпицей. Ветерок обдувает – ой ладно, ой любо!
– Эй ты, как тебя. Снимай свои порты, надену, а то мои поганы.
Рында поспешно раздевается, и я натягиваю его портки. Ткань у них грубая, дешевый англский настрафиль – царапает кожу. Зато сухо.
Парень зябко переминается, белея во тьме голыми ногами. Я треплю его по щеке.
– Вернемся – поди к сотнику. Скажи, государь велел тебе дать штуку красного сукна.
Великодушно мне, щедро. Так весь мир и одарил бы.
Многие мудрецы древности, многие святые начетники всяко размышляли о человеческом счастье – в чем оно: в покое ли душевном, в семейном ли довольстве, в отрадных ли свершениях. А счастье – это когда ты выспался, брюхо облегчил, и голова не болит. И ведь ни в какой преумной книге сей простой истины не вычтешь…
– Ночью буду молиться, – говорю я Малюте. – И за Федорца помолюсь. Много ль кому на свете такая честь выпадает: от царской руки страдальческий венец принять, а потом еще, чтобы помазанник Божий за спасение души помолился? Все грехи с Федорца снимутся. За меня-то, как помру, такого заступника сыскать будет негде. Отвернетесь все, на прах мой безответный плюнете, станете про меня небылицы плести: зверь-де был царь Иван, и зваться-де ему в веках царем Иродом.
Обычно, когда я про такое думаю, сердце возгорает яростью, но сейчас гнева нет, только легкая горечь. Ибо и они, будущие мои хулители, тоже умрут и за хулу свою ответят не мне, а Судии более строгому. Тогда-то и раскаются.
– Помолится он, – бурчит Лукьяныч. – Вдове бы лучше пожаловал сельцо или деньгами рублишек сто. У Федорца детей шестеро, теперь сироты…
– О сиротах Бог позаботится. Вели лучше от меня в Троицу сторублевый вклад сделать, чтобы десять лет поминали опричного дворянина Федора… как его?
– Никитина сына Оладьина, – вздыхает Малюта.
Дальше еде
Страница 4
молча. С черного холма, по черному полю, на черных конях, в черных опричных плащах, в темноте почти не видные. Едем из кромешности к свету, к чудесному зареву.Крыша моего дворца сияет в ночи, окруженная огненной короною. И хоть знаю я, что огонь тот рукотворный, душе трепетно. Это стража разводит костры вокруг моего обиталища, дабы было светло, как днем, и дабы ни один злодей не подкрался к стенам, но размягченному взору мнится: то не царский терем, а сияющий Град Ночной, моя неприступная крепость и нерушимая защита.
Еду, думаю про чудесный сон. Это было не пророческое видение и не сатанинское наваждение, а воспоминание о страшном и великом дне, когда преставилась маменька и меня маленького, семилетнего, в первый раз усадили на трон одного. Обложили головенку ватой, нахлобучили широкую Мономахову шапку, дали в руку тяжелый скипетр, и я, напуганный, потерянный, осиротевший, с ужаса обмочился. Ужас меня охватил не от престола, на котором я сиживал и прежде, не от Мономахова жаркого венца, а оттого, что на всем свете ныне я один и всегда буду один, и никто никогда не подскажет мне шепотом, когда поднимать скипетр и что говорить. Нету больше маменьки.
Сидел я в Грановитой мокрый, сжавшийся, а внизу стояли бояре в горлатных шапках, и все смотрели на меня и ждали, чтобы я поднялся и воздел скипетр.
Только не кричал мне тогда шепотом никакой голос. А может, и кричал, да я еще его не умел слышать. Однако встал, скипетр воздел и все прочее положенное исполнил. Страшные бояре склонились, я же остался прям. И понял: я – один, над всеми вознесенный. В том великая моя крепость и страшная моя беззащитность.
Сколько лет с тех пор прошло, сколько всего переменилось, но по-прежнему я – один, вознесен надо всеми, и мне нельзя никому показывать свою слабость.
– Скажи, Лукьяныч, а каково это – быть обычным человеком? Не государем? – спрашиваю я у Малюты и с любопытством жду ответа.
Он не может взять в толк, чего я хочу. Крутит косматой башкой – шапка, как всегда, засунута за кушак, ворот нараспашку. Малюта не любит, когда что-нибудь сдавливает голову или шею, а холодно ему, медведюге, не бывает.
– Ну, каково это – быть одним из малых? Из тех, кого тьма-тьмущая? – допытываюсь я. – Вот родился ты, Гришка Скуратов-Бельский прозвищем Малюта, и сызмальства знаешь, что над тобою много людей высших и бо?льших, кто знатнее, сильнее, богаче? Не обидно тебе живется?
Задумывается и отвечает не сразу.
– Нисколько не обидно, и я бы с тобой, Иван Васильевич, ни за что не поменялся бы. Вот сколько ты себя помнишь, ты всегда был государь, так?
Киваю.
– …И куда тебе было подниматься? Некуда. Какую мечту мечтать? Никакую. Выше тебя только Бог, до него все одно не докарабкаешься. А мне, Гришке Скуратову, было чего желать, было куда карабкаться и ныне, когда вскарабкался, есть чем погордиться. Я мог подняться, мог и упасть. А ты можешь только упасть.
– Ты что несешь, пес? – не впервые изумляюсь я Малютиной отчаянности.
Он лишь весело скалит острые зубы.
– Не бойсь. Для того я и с тобой, чтоб ты не падал. А кто на тебя помыслит худое – вот этими песьими клыками разорву. Ты меня знаешь.
Много стал о себе понимать, думаю я, отворачиваясь. Все повторяется. Истинно рек Еклесиаст, царь Израильский: «Что было, тожде есть, то же будет». Даже наилучшие, наивернейшие слуги хороши до поры до времени, а потом перезревают, портятся и приходится их перебирать, как запревшие злаки.
Самые ценные помощники получаются либо из тех, кто меня до цепенящей судороги страшится, либо из тех, в ком страха нет вовсе. Вторые драгоценней, ибо очень редки, но беда в том, что они-то обычно и портятся. Начинают мыслить себя незаменимыми, льститься уверенностью, что я без них как без рук. И тогда, хоть бывает жалко, приходится сей загнивший член отсекать.
Так было с Адашевым, умнейшим, но и гордейшим из столпов моей младости. Мало ему показалось служить мне десницею, возжелал стать и моею головою, а я, по молодости и неопытности, слишком долго то своевольство терпел.
С Басмановыми, отцом и сыном, вышло интереснее. Один был бесстрашен, другой – боязлив, на том близ меня и держались. Алексей – храбрец, безо всякого предо мной трепета, а Федька – будто лоза гибкая, дрожащая. Возьмешь его шутейно за горло – обмирает, будто девка, розовые щечки становятся белы, зраки в синих глаза черны.
Когда я велел обоих взять в застенок, людишки чего только не повыдумывали. Кто говорил, что я караю Басмановых за польскую измену, кто говорил – за крымскую, а третьи – будто за злодейское на мою особу умышление. На самом же деле это я побился с Малютой об заклад: кто кого зарежет, чтобы спастись – Алексей сына, или Федор отца? Я поставил свой индийский алмазный перстень на трусливого Федьку, Лукьяныч – половину своих поместий на бесстрашного Алексея. Думал, дурак, что обогатится.
Поначалу я собирался Басмановых только попугать. Поставил их перед собою. Положил на стол нож. Говорю сначала Алексею: «Желаю
Страница 5
спытать твою мне верность, яко Господь испытывал верность Авраамову. Возьми сына своего Исаака и принеси во всесожжение. Зарежь Федьку на моих глазах, и впредь будешь первым при мне помощником. Над всей державой тебя поставлю». А Федьке никаких наград сулить не стал. Сказал просто: «Хочешь жизнь свою спасти – зарежь отца. Не то готовься к лютой, жестокой казни».И махнул рукой, чтобы обоих одновременно развязали.
Федор сразу к ножу кинулся. Алексей же только поглядел на меня, да скривился. «Поганый ты, – сказал. – И служить тебе погано. Лучше сдохнуть».
Если б он промолчал, я бы Федьку остановил, а тут обидно стало. И зарезал Федька отца, за что потом и понес должную муку, ибо нельзя это: сыну на родителя руку поднимать.
Я же, отойдя от обиды на Алексееву неблагодарность, много над Малютой смеялся: кто-де лучше человечью породу знает? За науку отписываю с тебя половину твоих деревенек. А он мне: «Ты, может, и умней, да и я не внакладе. Теперь, без Басмановых, я близ тебя первый буду». Вот он какой, Малюта – дерзкий.
Беспременно надо, чтобы рядом был раб прехрабрый, кто служит не за страх. Однако нельзя и забывать, что такой слуга подобен прирученному медведю. Однажды может встать на дыбы и ощерить пасть.
Я кошусь на Малюту, а ему нипочем – ухмыляется.
– Что глазами жжешь, Иван Васильевич? Или зарезать меня хочешь, как Федорца зарезал?
Подъезжает вплотную, подставляет открытое горло:
– На, режь. Не жалко.
Натягиваю поводья. Останавливает своего коня и Лукьяныч.
Мне любопытно:
– Ты что же, вовсе не боишься смерти?
– А чего мне ее бояться? – Он беззаботно дергает широченным плечом. – Иль ты мало смертей повидал? Пока терзаешь человека, он орет, корчится. А как испустит дух – успокаивается, делается благ и тих. Знать, ему там лучше, чем здесь.
– И муки не боишься? – спрашиваю я. – Вот если тебя медленным огнем жечь?
Малюта достает из поясного кошеля кресало, разжигает трут. Прикладывает тлеющий конец к своей ладони. Остро пахнет жженым мясом, а Малюта знай улыбается и глядит мне в глаза.
– Брось! Вонько!
Вырываю трут.
Я всегда это знал: я один из всех человеков чувствую боль по-настоящему. Такое мне испытание от Господа. Прочие на пытке и визжат, и бабьим голосом орут, а все притворство. Им бы, как мне, один денек головной болезнью помаяться…
Конец ознакомительного фрагмента.


