Читать онлайн “Иствикские ведьмы” «Джон Апдайк»
- 02.02
- 0
- 0
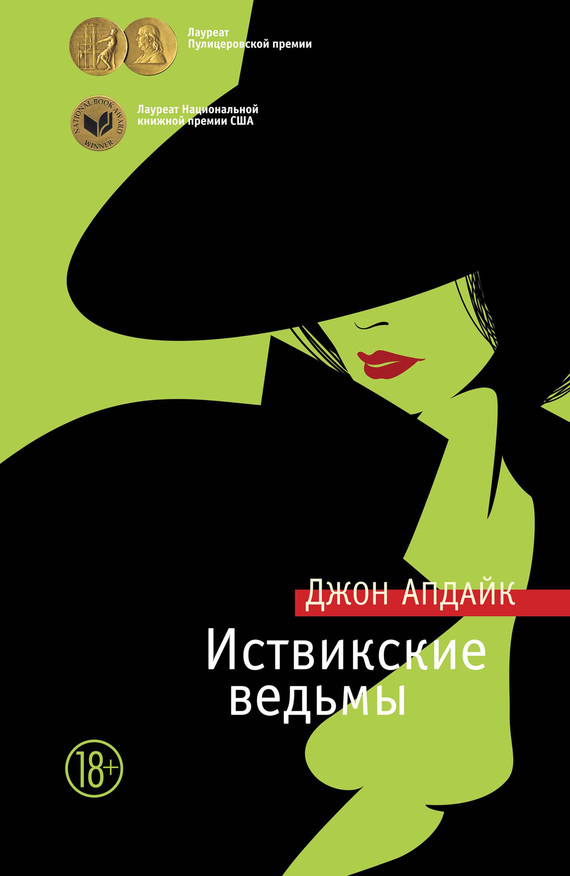
Страница 1
Иствикские ведьмыДжон Апдайк
Азбука PremiumИствик #1
В небольшом американском городке Иствик в конце шестидесятых годов проживают три ведьмы. Они умеют колдовать и посещают шабаши, а их личная жизнь складывается из рук вон плохо: неприятности на работе, разлад с детьми, разочарования в любви. Но все меняется с появлением неотразимого загадочного мужчины, который устраивает невероятный переполох в городе. Он богат, прекрасно разбирается в искусстве и, главное, знает, что нужно женщине. Обыкновенно проницательные ведьмы позволяют заморочить себе голову, даже не подозревая об истинной природе многоликого Даррила ван Хорна…
«Иствикские ведьмы», возможно, самый увлекательный роман американского писателя Джона Апдайка, завоевавший мировую известность благодаря фильму Джорджа Миллера, главную роль в котором исполнил неподражаемый Джек Николсон, а трех ведьм сыграли Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайффер.
Джон Апдайк
Иствикские ведьмы
John Updike
THE WITCHES OF EASTWICK
© И. Доронина, перевод, 1998
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®
I. Ведьмовской союз
И подобен был муж тот черной скале, хладной зело.
Изобел Гоуди, 1662 г.
И, изреча наставления свои, сошел Диавол с возвышения, и принудил человецев лобызать уши его, бывшие, по словам их, хладными, как льдины, а тело было твердым, как железо, когда припадали к нему.
Агнес Сэмпсон, 1590 г.
– Ах да, – сказала Джейн Смарт в своей торопливой, однако решительной манере: каждое ее «с-с» производило эффект обугленного кончика только что погасшей спички, прижатого к коже. Так дети, шаля, прижигают друг друга. – С-сьюки сказала, что какой-то мужчина купил имение Ленокс-сов.
– Мужчина? – переспросила Александра Споффорд, испытав странное ощущение неустойчивости, – недвусмысленно произнесенное слово поколебало ее мирную в то утро ауру.
– Из Нью-Йорка, – поспешила добавить Джейн, почти пролаяв последний слог и по-массачусетски проглотив «р». – Судя по всему, у него – ни жены, ни родственников.
– Ах, один из этих.
Северный акцент Джейн напомнил Александре о ходивших слухах, будто с Манхэттена к ним нагрянул какой-то гомосексуалист, и она замерла на месте, словно рассеченная надвое, там, где стояла, – посреди таинственного, непостижимого штата Род-Айленд. Она родилась на западе, где белые и лиловые горы вздымаются в небо в вечной погоне за нежными высокими облаками, а шары перекати-поля несутся по равнине в вечной погоне за горизонтом.
– Сьюки в этом вовсе не уверена, – небрежно возразила Джейн, несколько приглушив свои «с». – На вид он весьма мужествен. Ее поразило, какие волосатые у него руки. В агентстве недвижимости Перли он заявил, что будет использовать всю площадь, поскольку является изобретателем и нуждается в лаборатории. И у него несколько роялей.
Александра хмыкнула; ее голос, несколько изменившийся со времен колорадского детства, казалось, исходил из горла птички, привычно примостившейся у нее на плече. Телефонная трубка до боли натерла ей ухо, а рука затекла и, казалось, вот-вот онемеет.
– Сколько же роялей может быть нужно мужчине?
Вопрос, похоже, обидел Джейн. Ее голос вздыбился, как шерсть на спине у разъяренного черного кота, и стал переливчатым.
– Ну, Сьюки передает лишь то, что рассказала ей Мардж Перли вчера вечером на заседании комитета лошадиной поилки, – ершисто пояснила она.
Этот комитет отвечал за сооружение и – после актов вандализма – восстановление огромной лошадиной поилки из голубого мрамора, которая исторически находилась в центре Иствика, где перекрещивались две главные улицы; план города напоминал букву «L», прилегающую коротким концом к заливу Наррагансет. На Док-стрит сосредоточивался городской бизнес, пересекающая ее под прямым углом Оук-стрит приютила очаровательные старинные жилые дома. Мардж Перли, чьи отвратительные канареечно-желтые таблички «Продается» скакали вверх-вниз по деревьям и заборам, словно по приливным волнам экономики и моды, в соответствии с наплывом и откатом жителей (уже несколько десятилетий Иствик слыл отчасти упадочным – отчасти модным городом), – была грузной предприимчивой женщиной и если являлась ведьмой, то работала совсем на иной частоте – не на той, на которую были настроены Джейн, Александра и Сьюки. У нее был муж, крохотный суетливый Хоумер Перли, вечно подстригавший их живую олеандровую изгородь чуть ли не до состояния стерни, а это уже совсем другое дело.
– Документы посланы в Провиденс, – объяснила Джейн, вонзив свое «нс» прямо в ухо Александре.
– Волосатые руки, – задумчиво повторила Александра. Перед глазами у нее маячила немного поцарапанная, испещренная пятнышками и неоднократно крашенная чернота деревянной дверцы кухонного шкафа. Александра знала, какое буйство атомов, скользящих и завихряющихся, напоминающих кружение бликов перед усталым взором, царит под такой поверхностью. Словно в хрустальном шаре, она прозрела б
Страница 2
дущее: ей предстоит познакомиться с этим мужчиной и влюбиться в него, но ничего хорошего из этого не выйдет. – А имя у него есть? – спросила Александра.– Да в том-то и глупость, – ответила Джейн Смарт, – Мардж назвала его Сьюки, а та – мне, но что-то спугнуло его и стерло из моей памяти. У него одна из тех фамилий, которые имеют приставку то ли «ван», то ли «фон», то ли «де».
– Как шикарно, – заметила Александра, уже начиная расти и распространяться в ожидании предстоящего вторжения. Высокий смуглый европеец, лишенный своего древнего геральдического наследия, обреченный проклятием на скитания. – Когда он предполагает въехать?
– Она сказала, что скоро. Возможно, уже въехал! – В голосе Джейн послышалась тревога.
Александра представила, как слишком, пожалуй, густые для такого худого лица брови подруги выгибаются дугами над темными, обиженно глядящими глазами, коричневый цвет которых всегда оказывался на деле чуть светлее, чем помнилось. Если Александра являла собой тип крупной меланхоличной ведьмы, всегда растягивающейся в тонкую плоскость, чтобы создать нужное настроение и слиться с ландшафтом, в душе довольно ленивой и по сути холодной, то Джейн была горячей, быстрой, целенаправленной, как остро заточенный карандаш; сущность же Сьюки Ружмонт, вечно занятой, неустанно собирающей городские новости, направо и налево расточающей улыбки и приветствия, казалась неопределенной, переменчивой, непостоянной. Об этом думала Александра, кладя трубку на рычаг. Все распадается на триады. И чудеса случаются вокруг нас по мере того, как природа ищет и обретает неотвратимые формы; кристаллические и органические объекты совмещаются под углом в шестьдесят градусов, поскольку равнобедренный треугольник – отец любой структуры.
Она снова принялась расставлять банки мейсоновского соуса для спагетти – для такого количества соуса спагетти понадобилось бы больше, чем она и ее дети могли бы съесть, даже окажись они заколдованы на сто лет пребывания в итальянской волшебной сказке: ряды дымящихся банок громоздились на дрожащей и поющей проволочной решетке над голубым в белую крапинку паровым котлом. Это было, как Александра смутно сознавала, своего рода забавной данью ее нынешнему любовнику – сантехнику итальянского происхождения. Рецепт исключал лук. Два зубочка измельченного чеснока следовало поджарить в течение трех минут (не более и не менее, в этом состояло таинство) в разогретом масле, добавить побольше сахара, чтобы нейтрализовать кислоту, одну натертую морковь, много перца, потом – соль; но что придавало соусу возбуждающую силу, так это чайная ложка истолченного базилика и щепотка белладонны, способствующей высвобождению энергии, без чего результатом концентрации мужской силы был бы просто убийственный прилив крови. Все это следовало добавить к ее собственноручно выращенным томатам, которые заполонили все подоконники в доме, несмотря на то что за минувшие несколько недель Александра постоянно резала их и тушила для соуса. С тех пор как два года назад Джо Марино стал навещать ее ложе, какое-то абсурдное плодородие обуяло привязанные к колышкам растения, высаженные на прилегающем к дому сбоку огороде. В течение всего долгого дня огород освещало с юго-запада солнце, косые лучи которого проникали сквозь ровный ряд ив. Скрюченные маленькие помидорные веточки, мясистые и бледные, словно сделанные из дешевой зеленой бумаги, обламывались под тяжестью немыслимого количества плодов; в таком изобилии было некое безумие, истерика, подобная тем, что устраивают порой дети, капризно требующие лакомства. Сорванные плоды казались живыми существами: страстными, хрупкими и предрасположенными к гниению. Когда Александра брала в руки водянистые оранжево-красные шары, она представляла, что сжимает гигантскую мошонку своего любовника. Во всем этом, пока Александра трудилась на кухне, ей чудилось нечто печально-менструальное: кроваво-красный соус, предназначенный для белых спагетти. Толстые белые трубочки превращались в ее воображении в полоски собственного бледного жира. Ах, эта извечная женская борьба с весом: в своем тридцативосьмилетнем возрасте Александра находила ее все более неестественной. Неужели, чтобы приманить любовь, нужно умерщвлять собственную плоть, подобно древнему святому-неврастенику? Естественность есть показатель и контекст всего здорового, так что, если разыгрывается аппетит, его нужно удовлетворять, следуя законам космического порядка. Тем не менее иногда Александра презирала себя за леность, выразившуюся в том, что она завела любовника, принадлежащего к нации, известной своей терпимостью к полноте.
Любовниками Александры в последние годы, после развода, чаще всего были бездомные мужья, отбившиеся от жен, которым до того принадлежали. Ее собственный бывший муж, Освальд Споффорд, покоился высоко на кухонной полке, в банке с плотно завинченной крышкой, в виде многоцветного праха. В прах превратила его Александра, когда ее могущество развернулось в полную мощь после их переезда в Иствик из Нориджа, штат Коннектику
Страница 3
. Оззи знал все о хроме и перешел с завода сантехники, находившегося в этом холмистом городе с избытком островерхих белых церквей, к конкуренту своего хозяина, на завод шлакобетонных блоков, растянувшийся на полмили к югу от Провиденса посреди причудливых промышленных пустырей этого небольшого штата. Переехали они семь лет назад. Здесь, в Род-Айленде, сила стала расти и заполнять Александру, словно газ – безвоздушное пространство, и, пока ее дорогой Оззи ежедневно мотался своим обычным маршрутом на работу и обратно по шоссе № 4, она сократила его сначала до размеров обычного мужчины, с которого тут же спала, растворившись в соленом воздухе иствикской матриархальной красоты, броня патриархального защитника, а потом – до размеров ребенка, чьи всегдашние нужды и такое же всегдашнее смирение перед лицом принимаемых Александрой решений сделали его жалким и безоговорочно управляемым. Он совершенно утратил контакт с ширящейся внутри ее вселенной, стал на равных с их сыновьями участвовать в деятельности лиги малышей и играть в кегли за команду сантехнической компании. По мере того как Александра заводила себе сначала одного, первого, потом других любовников, ее муж-рогоносец все больше скукоживался и ссыхался, превратившись наконец в куклу, по ночам лежавшую в ее широченной гостеприимной кровати, как раскрашенное бревно, подобранное в придорожной траве, или набитый опилками игрушечный крокодил. К моменту их официального развода ее бывший господин и повелитель превратился просто в прах – «материю не на своем месте», как давным-давно назвала это ее мать, – некую полихромную пудру, которую Александра смела в кучку, ссыпала в банку и хранила теперь в качестве сувенира.Другие ведьмы тоже прошли в своих браках через сходную трансформацию; бывший муженек Джейн Смарт, Сэм, висел в погребе у нее на ранчо среди сушеных трав и прочих колдовских ингредиентов. От него иногда отщипывали самую малость – не более щепотки – и добавляли в приворотное зелье для пикантности; а Сьюки Ружмонт упокоила своего в пластике и использовала теперь в качестве настольной салфетки. Это последнее событие произошло не так давно; Александра еще живо представляла Монти на каком-нибудь званом коктейле – хлопчатобумажный пиджак в полоску и петрушечно-зеленые обтягивающие брюки – громко изрекающим глупости по поводу подробностей дневных партий в гольф и яростно поносящим медлительные женские пары, которые задерживали их весь день и не дали довести игру до конца. Он ненавидел «энергичных» женщин: губернаторов, истеричных демонстранток против войны, тех, кого он именовал леди-доктор, а также леди Берд Джонсон[1 - Леди Птичка – прозвище жены президента Линдона Джонсона. – Здесь и далее примеч. перев.] и даже Линду Берд и Люси Бейнз[2 - Имеются в виду дочери президента Линдона Джонсона.]. Всех их Монти считал мужиками в юбках. Витийствуя, он обнажал прекрасные зубы – крупные и очень ровные, не искусственные, а когда раздевался, его ноги оказывались трогательно тонкими, синеватыми и гораздо менее мускулистыми, чем его загорелые руки игрока в гольф. И сморщенные на границе с ягодицами бедра, напоминающие дряхлеющую плоть женщины средних лет. Он был одним из первых любовников Александры. Теперь, ставя чашку черного как смоль кофе Сьюки на блестящую пластиковую салфетку в пиджачную полоску и глядя на остающийся на ней отчетливый кружок, она ощущала странное чувство удовлетворения.
Иствикский воздух наделял женщин особой силой. Александра нигде еще такого не испытывала, если не считать уголка штата Вайоминг, через который проезжала с родителями, когда ей было лет одиннадцать. Ее выпустили из машины попи?сать возле придорожных зарослей полыни, и, глядя, как на торжественно-сухой земле вмиг образовалось неровное пятно темной влаги, она подумала: это ничего. Оно испарится. Природа поглотит его. То детское ощущение осталось с ней навсегда вместе со сладким привкусом тамошней придорожной полыни. Иствик, в свою очередь, беспрерывно осыпало поцелуями море. Док-стрит с ультрамодными магазинами, в которых курились ароматические свечи, с нацеленными в летних туристов козырьками из тонированного стекла, со старомодным алюминиевым вагончиком-закусочной, примыкающим к булочной, с цирюльней, расположенной рядом с мастерской по изготовлению рамок, с лязгающей печатным станком редакцией газеты, с длиннющим темным магазином скобяных товаров, принадлежащим армянам, была причудливо пронизана соленой водой, которая скользила, шлепалась и хлюпала в дренажных канавах и билась о сваи. На них частично опирались некоторые дома, а переменчивые, с прожилками водяные блики мерцали и подрагивали на лицах местных матрон, выносящих из магазина «Бей-Сьюперетт» сумки с апельсиновым соком, обезжиренным молоком, закусочным мясом, стопроцентно пшеничным хлебом и сигаретами с фильтром. Главный супермаркет, где закупали продукты на неделю, располагался в глубине, в той части города, которую населяли фермеры. Здесь в XVIII веке плантаторы-аристократы, богатые рабами и стадами, наносили друг др
Страница 4
гу визиты верхом, а впереди галопом мчался раб, который последовательно открывал перед хозяином ворота изгородей. Теперь витающие над заасфальтированными акрами автомобильной стоянки супермаркета выхлопные газы, окрашенные свинцовыми парами, вытеснили из памяти свежий воздух, озонированный капустными и картофельными полями. Там, где на протяжении жизни многих поколений пышно произрастал маис – выдающееся сельскохозяйственное изобретение индейцев, – маленькие фабрики с глухими стенами, называвшиеся как-нибудь вроде «Дейтапроб» или «Компьютек», выпускали теперь свою продукцию, производившуюся из таких микроскопических составляющих, что рабочим приходилось носить шапочки, чтобы упавшая с головы перхоть не нарушила тончайших электромеханических процессов.В Род-Айленде, известном как самый маленький из пятидесяти штатов, на удивление сохранились безбрежные американские просторы, почти неезженые дороги посреди протяженных индустриальных пейзажей, заброшенные усадьбы и покинутые дома, пустынные земли, поспешно пересекаемые ровными черными лентами шоссе, поросшие вереском болота и безлюдные пляжи по обе стороны залива, который ровным клином врезался в самое сердце штата, вершиной указывая на столицу, столь многозначительно нареченную[3 - Провиденс по-английски означает «провидение, Промысел Божий».]. «Окурок творения» и «сточная труба Новой Англии» – так называл эти края Коттон Мэзер. Никогда не претендовавшая на суверенитет, основанная изгоями вроде недолго прожившей колдуньи Анны Хатчинсон, эта земля испещрена морщинами и окутана покровом множества тайн. Самый распространенный здесь дорожный знак – две стрелы, направленные в противоположные стороны. Заболоченные и бедные районы чередуются с курортами для сверхбогатых. Являясь убежищем квакеров и составляющих сухой остаток пуританизма людей, не признающих социально обусловленной морали, этот штат управляется католиками, чьи краснокирпичные викторианские церкви, словно грузовые суда на рейде, вырисовываются на фоне местной ублюдочной архитектуры. Здесь сохранился тот глубоко въевшийся в прибрежную гальку еще со времен Великой депрессии зеленовато-металлический флер, какого нет больше нигде. Стоит вам пересечь границу штата, не важно где – в Потакете или Уэстерли, – и вы мгновенно ощущаете едва заметную перемену: какую-то бесшабашную расхристанность, презрение к внешнему виду, фантастическую беззаботность. За деревянными трущобами нередко зияют лунные пейзажи, где разве что одинокий рекламный щит зеленщика, маячащий у дороги призраком минувшего лета, выдает тоскливое и разрушительное присутствие человека.
По одному из таких мест, прихватив своего черного лабрадора Коула[4 - Coal – уголь, уголек (англ.).], и ехала сейчас Александра в тыквенного цвета фургоне «субару», чтобы тайком взглянуть на старинный дом Леноксов. Оставив последнюю порцию простерилизованных банок с соусом остывать на кухонной стойке, она прикрепила к холодильнику магнитом в форме фигурки Снупи записку для своих четверых детей: «Молоко в хол-ке, ореос[5 - Ореос – разновидность детского лакомства: два шоколадных печенья, проложенные кремом.] – в хлебнице, буду через час. Люблю».
Семейство Леноксов во времена, когда был еще жив Роджер Уильямс, обманув вождей наррагансетских племен, согнало их с участка земли, достаточно обширного, чтобы разместить на нем владения европейского барона, но, хотя некий майор Ленокс героически сражался в битве при Великой Топи в войне короля Филиппа, а его прапрапраправнук Эмори своим красноречием во время Хартфордской ассамблеи 1815 года убедил фракцию Новой Англии не вступать в Союз, семейство постепенно склонялось к упадку. Ко времени приезда в Иствик Александры в Южном округе не осталось ни одного Ленокса, кроме вдовой старухи Абигайль, проживавшей в умирающей странной деревушке Оулд-Вик. Она бродила по дорожкам, бормоча что-то себе под нос и ежась под градом голышей, которыми ее обстреливали дети. Когда местный констебль пытался призвать их к порядку, шалуны утверждали, что таким образом защищаются от ее дурного глаза. Обширные земельные владения Леноксов были давно заброшены. Последний из дееспособных мужчин в роду построил на все еще принадлежавшем семье участке земли, напоминавшем остров в окружении заболоченных солончаковых земель в глубине от восточного побережья, кирпичный дом, представлявший уменьшенную, но по местным масштабам впечатляющую имитацию великолепных «загородных особняков», какие возводили в Ньюпорте в «золотом веке». Хотя здесь была сооружена дамба, которую постоянно наращивали, добавляя гравия, дом страдал оттого, что во время высоких приливов оказывался отрезанным от мира. Начиная с 1920 года дом последовательно населяла череда разных владельцев, никогда его не ремонтировавших, так что теперь он пришел почти в полный упадок. Огромные пластины шифера, некоторые красноватого, другие – синевато-серого цвета, срывались с крыши во время зимних ураганов и лежали летом посреди высоких зарослей некошеной травы безымянными надгробиями; замыслов
Страница 5
той формы медные водостоки и фонарные столбы позеленели и заржавели; декоративный восьмиугольный купол с видом на все стороны света накренился к западу; массивные верхушки дымоходов, напоминавшие пучки то ли органных труб, то ли напряженных глоток, нуждались в укреплении: из них вываливались кирпичи. Тем не менее издали силуэт здания остается безупречно величественным, подумала Александра. Она припарковала машину на обочине дороги, ведущей к пляжу, чтобы посмотреть на дом издали, с расстояния около четверти мили.Стоял сентябрь, пора высоких приливов; болото, простиравшееся отсюда вплоть до острова, в тот день представляло лазурную гладь воды, усеянную верхушками просоленных пучков увядшей травы, казавшихся золотыми. Оставалось часа два до того времени, когда дамба становилась непроходимой в оба конца. Шел пятый час, все вокруг было неподвижно, солнце пряталось за парусиновым покровом облаков. Раньше дом скрывала аллея вязов, тянувшаяся вдоль дамбы и далее вплоть до главного входа, но они погибли от какой-то древесной болезни, остались лишь высокие стволы, очищенные от некогда раскидистых, смыкавшихся арками ветвей. Эти древесные остовы выглядели как завернутые в саваны покойники, склонившиеся друг к другу, или одинаковые безрукие роденовские статуи Бальзака. Дом имел неприветливый симметричный фасад со множеством ренессансных окон в стиле Палладио[6 - Андреа Палладио (1508–1580) – итальянский архитектор.], казавшихся маловатыми – особенно окна третьего этажа, сплошным однообразным рядом протянувшиеся под крышей: это был этаж, предназначенный для слуг. Александра побывала в этом доме несколько лет назад, тогда она пыталась еще быть хорошей женой, добросовестно исполняющей свои обязанности, и сопровождала Оззи на благотворительный концерт, устроенный в здешнем бальном зале. В памяти мало что осталось: только анфилады комнат, скудно обставленных и пахнущих морской солью, плесенью и давно забытыми удовольствиями. Потемневший шифер разрушающейся крыши сливался с чернотой, сгущавшейся на севере, но тревожность атмосфере придавали не только тучи. Из левого дымохода поднималась тонкая белая струйка дыма – внутри кто-то был.
Тот человек с волосатыми руками.
Будущий любовник Александры.
А еще более вероятно – рабочий или сторож, которого он нанял. От долгого и пристального вглядывания в даль у Александры защипало глаза. Все внутри ее, так же как небо на севере, заволокло чернотой, и она почувствовала себя жалкой сторонней наблюдательницей. Острая женская тоска заполонила нынче все газеты и журналы; сексуальное равновесие было поколеблено, когда девочки из хороших семей помешались на чувственных рок-звездах, зеленых безусых гитаристах из ливерпульских или мемфисских трущоб, непостижимым образом обретших непристойное могущество. Какие-то темные светила обратили дочек, взращенных вдали от бед и тревог, в разнузданных молодых девиц с суицидальными наклонностями. Александра вспомнила свои помидоры: сок насилия под самодовольно гладкой кожицей. Она подумала о старшей дочери, часами просиживающей в своей комнате наедине со всеми этими «Манкиз» и «Битлз»… Бродить вот так, будто во сне, напрягая зрение, для Марси – одно, для ее матери – другое.
Александра зажмурилась, чтобы прогнать видение, потом вернулась в машину, где ее ждал Коул, и проехала с полмили по ровной черной дороге до берега.
Когда сезон заканчивался, собаку разрешалось спускать с поводка, если поблизости никого не было. Но тот день выдался теплым, и узкая полоска стоянки была забита старыми машинами и фургонами «фольксваген» с занавешенными окнами и психоделическими наклейками. Перед раздевалками и пляжной пиццерией множество молодых людей в купальниках лениво валялись на песке, врубив радиоприемники, словно лето и юность не собирались кончаться никогда. Из уважения к пляжным правилам Александра на полу под задним сиденьем положила длинный веревочный поводок. Коул задрожал от отвращения, когда она продела его через кольцо в украшенном металлическими заклепками ошейнике. Вмиг превратившись в сгусток мускулов и энергии, пес потащил Александру через вязкий песок. Она остановилась, чтобы скинуть свои бежевые сандалии на веревочной подошве, и собака стала давиться под натянутым ошейником; Александра оставила сандалии у кустика в конце пляжного променада. Шестифутовые сегменты этого дощатого настила разъехались во время последнего высокого прилива, который также оставил на песке у кромки моря кучу бутылок из-под дезинфицирующего средства «Хлорокс», трубочки из-под тампонов и пивные банки, которые болтались в воде так долго, что вода съела их этикетки. Лишенные их, банки выглядели устрашающе – слепые, как бомбы, которые террористы изготавливают и подкладывают в людных местах, чтобы подорвать существующую систему и якобы остановить войну.
Коул тащил хозяйку вперед, мимо нагромождения обросших ракушками каменных кубов, из которых раньше, когда этот берег был игровой площадкой для богатых, а не загаженным общественным пляжем, состоял пирс. Кубы были
Страница 6
высечены из светлого с черными прожилками гранита, в одном, самом большом, еще сохранилась скрепленная болтами скоба, проржавевшая за минувшие годы до джакометтиевской хрупкости. Несущийся из молодежных радиоприемников рок легкомысленнейшего свойства волнами омывал ее со всех сторон, заставляя почувствовать собственную тяжеловесность, не давая забыть о ведьминской фигуре, которую приходилось маскировать босыми ногами, мешковатыми мужскими рубашками и поношенными зелеными парчовыми алжирскими жакетами из тех, что они с Оззи купили в Париже семнадцать лет назад во время медового месяца. Хотя летом ее кожа становилась по-цыгански оливковой, по крови Александра оставалась северянкой, девичья фамилия была Соренсен. От матери она знала о суеверии, связанном со сменой инициала в замужестве, но смеялась над предрассудками и страстно желала поскорее завести детей. Марси была зачата в Париже, на железной кровати.Александра заплетала волосы в толстую косу, лежавшую на спине, а иногда закалывала ее кверху, и тогда коса напоминала вышедший наружу на затылке позвоночник. Александра никогда не была блондинкой в истинном, викинговском стиле, ее волосы имели грязновато-пепельный оттенок, теперь еще больше замусоренный сединой. Особенно интенсивно седина пробивалась спереди, надо лбом; на затылке же волосы все еще оставались густыми и вьющимися, как у тех девушек, что лежали теперь на песке, наслаждаясь теплом. Гладкие молодые ноги, мимо которых она проходила, карамельно-загорелые, покрытые легким белым пушком, выстроились в ровную шеренгу, словно демонстрируя свою солидарность. Нижняя часть бикини на одной девушке блестела в тусклом свете, туго натянутая и гладкая, как барабан.
Коул зарычал и рванулся вперед, учуяв в океанском воздухе, пахнущем водяными, дух какого-то ошметка разлагающегося животного. Чем дальше, тем меньше становилось народу на берегу. Слившаяся в объятиях юная пара лежала в выемке, которую вырыла себе в песке; юноша мурлыкал что-то в ямочку на шее подруги, как в микрофон. Трое сверхмускулистых молодых людей с длинными развевающимися волосами, крякая, прыгали, перебрасываясь тарелочкой фрисби, и только когда Александра позволила сильному черному лабрадору протащить себя прямо через широкий треугольник, образованный игроками, те прекратили свое оскорбительное дрыганье и визжание. Ей показалось, что она расслышала слово – не то «карга», не то «баба», – брошенное ей в спину, но это мог быть просто обман слуха, всплеск волны, ложно принятый за речь. Александра почти дошла до того места, где изъеденная влагой цементная стена, увенчанная спиралью из ржавой колючей проволоки, знаменовала конец общественного пляжа; тем не менее и здесь еще встречались клубки юнцов и охотники за юнцами, и Александра не решалась отпустить бедного Коула, хотя он беспрестанно дергался, натягивая поводок. От его нетерпеливого желания побегать веревка горела у нее в руке. Море казалось неестественно спокойным – словно впавшим в транс, лишь вдали, там, где одинокий маленький катерок жужжал, скользя по ровной поверхности неглубоко сидящим бортом, виднелись белые паруса. По другую сторону от Александры, совсем рядом, по дюнам ползли вниз песчаные бобовые вьюнки и пушистые гудзонии. Здесь пляж сужался и становился укромным, как можно было понять по кучкам консервных банок, бутылок, обгоревших щепок, прибитых к берегу, разломанной пенопластовой упаковке и использованным презервативам, похожим на высохшие трупики медуз. Цементная стена была исписана краской из баллончиков – в основном парами связанных между собой имен. Скверна повсюду оставила свой след, но океан смягчил ее.
В одном месте дюны были невысоки, так что поверх них дом Леноксов оказался виден под другим углом и с более дальнего расстояния; его симметрично расположенные по отношению к куполу дымоходы торчали, как крылья сарыча-горбуна. Александра ощутила раздражение и желание отомстить. Ей казалось, что у нее отбиты все внутренности; она чувствовала себя оскорбленной услышанным словечком «карга» и вообще поведением этой непочтительной молодежи, не позволяющей ей спустить с поводка собаку и дать побегать своему другу – домашнему любимцу. Александра решила очистить пляж для себя и Коула, вызвав грозу. Погода снаружи всегда взаимосвязана с погодой внутри; задача состоит лишь в том, чтобы развернуть течение вспять, что сделать вовсе не трудно, если сила изначально сконцентрирована на нужном полюсе. Сколько замечательных, выдающихся возможностей открыла в себе Александра благодаря лишь тому, что заново обрела свое исконное «я», пусть это и случилось только в середине жизни! Да, только к середине жизни она действительно поверила в то, что имеет право на существование и природа создала ее не как дополнение и спутницу – гнутое ребро, как сказано в скандально известном Malleus Maleficarum[7 - «Молот ведьм» – трактат по демонологии и о борьбе с ведьмами, созданный в XV веке.], – но как оплот продолжающегося Творения, как дщерь дщери и женщину, чьи дочери в свою очередь выносят доче
Страница 7
ей. Александра закрыла глаза, чувствуя, как дрожит и поскуливает от страха Коул, и обратила силу внушения на безбрежную вселенную внутри себя – и эта бесконечность стала прорастать сквозь людские поколения и поколения прародителей-приматов вспять, потом еще дальше, в глубь веков, сквозь эру земноводных и рыб к эре водорослей, из которых состряпалась первая на пустынной тогда Земле ДНК, принявшая форму микроскопических тепловатых внутренностей. Другим концом эта бесконечность, минуя множество стадий, уперлась в исход жизни, пульсирующий, кровоточащий, постепенно приспосабливающийся к холоду, к ультрафиолетовому излучению, к вспухающему и слабеющему солнцу, – Александра повелела своим беременным глубинам потемнеть, сжаться и высечь молнию на границе между двумя высокими стенами воздуха. И небо вдали на севере действительно загромыхало, но так слабо, что только Коул мог услышать. Он навострил уши и стал водить ими из стороны в сторону, в собачьем черепе ожили их корни. Мерталия, Мусалия, Дофалия – громко зазвучали внутри Александры мысленно произносимые запретные имена. Онемалия, Зитансейя, Голдафария, Дедульсейра. Невидимо для посторонних Александра начала расти и сделалась огромной, как воплощение вселенского материнского гнева, вобравшего в себя весь этот умиротворенный сентябрьский мир. Ее веки взметнулись как по команде. С севера налетел резкий порыв ветра, возвестивший приближение холодного фронта, и сорвал пестрые флажки с флагштоков, торчавших перед дальней раздевалкой. На том конце, где толпа полуголых юнцов была особенно густой, раздался всеобщий вздох изумления, и тут же послышалось возбужденное хихиканье – ветер крепчал, а небо над Провиденсом оставалось ясным, словно небесную твердь в этом месте подпирал прозрачный багровый утес. Гименейя, Гегрофейра, Седани, Гилтар, Годиб. Вокруг этого атмосферного утеса вскипали кучевые облака, еще несколько мгновений назад казавшиеся невинными, как цветы, плавающие на поверхности пруда. На фоне почерневшего неба их края сверкали, словно мрамор на солнце. Изменился окружающий пейзаж: прибрежные травы и ползучие солеросы под толстыми босыми пальцами Александры, обросшими мозолями и скрюченными от многолетнего ношения обуви, скроенной в угоду мужским вкусам и жестоким требованиям красоты, стали похожи на негатив, впечатанный в песок, чья испещренная следами рябая поверхность вдруг окрасилась в лавандовый цвет и вспучилась, как пузырь, раздувшийся под воздействием атмосферных перепадов. Непочтительные молодые люди, проводив взглядами свою тарелку, которую ветер вырвал у них из рук и нес теперь по небу, словно воздушного змея, бросились собирать радиоприемники, непочатые упаковки пивных банок, кроссовки, джинсы и майки-«варёнки». Девушка, нежившаяся со своим парнем в песчаной нише, никак не могла успокоиться и беспрерывно всхлипывала, пока ее кавалер неуклюже старался на ощупь застегнуть крючки на ее бюстгальтере. Коул, обезумевший от барометрического давления, терзавшего ему уши, лаял в пространство, кидаясь из стороны в сторону.Теперь и бескрайний непроницаемый океан, только что невозмутимо простиравшийся вплоть до Блок-Айленда, ощутил перемену. Его поверхность там, где ее коснулась тень летящих облаков, покрылась рябью и сморщилась – вода в этих местах трепетала и корчилась, почти как пожираемая пламенем материя. Мотор на катере заработал натужнее. Паруса, маячившие в море, исчезли, и воздух завибрировал от совместного рева вспомогательных двигателей – лодки устремились в гавань. Из ветряного горла вырвался хриплый кашель, и дождь обрушился на землю огромными ледяными каплями, бившими больно, как крупные градины. Громко топая, мимо Александры промчались к своим припаркованным возле раздевалок машинам медовокожие любовники. Загремел гром на вершине темного воздушного утеса, по поверхности которого быстро скользили чуть более светлые серые облака в форме гусей, жестикулирующих ораторов, разматывающихся мотков пряжи. Крупные, больно жалящие капли сменились сплошной стеной дождя, состоявшей из пенящихся белых струй, которые ветер перебирал невидимыми пальцами, словно арфист – струны своего инструмента. Александра стояла неподвижно, облитая холодной водяной глазурью, и безмолвно кричала в собственные недра: Эзоилл, Мьюзил, Пури, Тамен. Коул скулил, съежившись у ее ног и обмотав ее щиколотки своим поводком. Его тело с зализанной, облегавшей мускулатуру шерстью дрожало. Александра отвязала веревку и отпустила собаку на волю.
Но Коул продолжал бесформенной грудой лежать у ее ног; когда сверкнула молния – одна, потом еще одна, сдвоенная, – он тревожно вскинулся. Александра считала секунды – гром раздался через пять. Если громовые удары исходили из сердцевины, то по грубым прикидкам это означало, что вызванный ею ураган имеет десять миль в диаметре. Рваные раскаты грома обрушивались на землю трескучими проклятиями. Крохотные крапчатые песчаные крабы дюжинами вылезали из своих норок и спешили к пенящейся воде. Цвет их панцирей был таким песочно-зыбким, что казался пр
Страница 8
зрачным. В приливе жестокости Александра раздавила одного босой ступней. Жертва. Всегда необходима жертва. Таков закон природы. В подобии странной пляски она настигала и топтала крабов одного за другим. Все лицо Александры, от лба до подбородка, покрылось водяной пленкой. Пронизанная флюидами ее возбужденной ауры, эта пленка переливалась всеми цветами радуги. Беспрестанные вспышки молний кадр за кадром запечатлевали Александру на воображаемых фотоснимках. На подбородке у нее была ямочка; другая, едва заметная, – на кончике носа; привлекательность ее лицу придавали чистота широкого лба под посеребренными сединой крыльями волос, наискось симметрично зачесанными назад и собранными в косу, и проницательный взгляд глаз чуть-чуть навыкате; рисунок радужных оболочек цвета вороненой стали, казалось, стремительно разбегался к ободкам, как будто каждый из ее непроглядно-черных зрачков был антимагнитом. Изгиб печально-пухлых губ с глубоко прорезанными уголками напоминал подобие улыбки. Своего нынешнего роста – пять футов восемь дюймов – Александра достигла к четырнадцати годам, в двадцать лет она весила сто двадцать фунтов; сейчас ее вес составлял около ста шестидесяти. Одним из преимуществ того, что она стала ведьмой, была возможность постоянно сдерживать свой вес.Как крохотные песчаные крабики казались прозрачными на фоне крапчатого песка, так Александра, промокшая насквозь, чувствовала себя прозрачной в дождевых струях, слитой с ними воедино, температура дождя и ее крови сравнялась. Небо над морем покрылось расплывчатыми горизонтальными полосами, гром, удаляясь, сменился глухим бормотанием, дождь – теплой моросью. Пронесшемуся урагану не суждено было быть отмеченным на погодных картах. Краб, которого Александра раздавила первым, все еще шевелил лапками, напоминая бледное птичье перышко, потревоженное дуновением ветерка. Коул, освободившийся наконец от страха, носился кругами все более и более широкими, и на песке рядом с треугольными следами заячьих лапок, более изящными царапинками от лапок куликов и пунктирными линиями, прочерченными крабами, оставались квадратные отпечатки его когтей. А поверх всех этих ключиков к иным мирам бытия – миру крабов с глазами на макушке, ползающих боком на цыпочках, миру морских улиток, стоящих в своих домиках на голове и ножками пропихивающих в рот пищу, – повсюду виднелись маленькие кратеры, проделанные в песке дождевыми каплями. Песок так пропитался водой, что цветом стал похож на цемент. Одежда, включая белье, настолько плотно облепила тело Александры, что она чувствовала себя сигаловской гладко-белой скульптурой – хитросплетение сосудов и костей, окутанное призрачным молочным туманом. Александра прошла по опустевшему и омытому дождем общественному пляжу до увенчанной колючей проволокой стены и обратно. Потом – до автомобильной стоянки. По пути остановилась у кустиков, чтобы прихватить свои оставленные там и вымокшие теперь до нитки сандалии. Длинные стреловидные листья-лезвия растений блестели, расправившись под дождем.
Александра открыла дверцу своего «субару» и громко позвала Коула, носившегося в дюнах.
– Песик, сюда! – пропела величавая матрона. – Беги сюда, детка! Ко мне, ангелок!
Взору молодых людей, которые, укрывшись мокрыми, забитыми песком полотенцами и бесстыдно прижавшись друг к другу своими гусиными гузками, сбились в серой дощатой раздевалке и под навесом (в томатно-сырную полоску) пляжной пиццерии, Александра предстала чудом: совершенно сухая, ни один волосок не выбился из ее толстой косы, ни пятнышка влаги на парчовом зеленом жакете. Поскольку впечатление это не поддавалось проверке, оно породило среди иствикцев слухи о черной магии.
Александра была художницей. Пользуясь почти исключительно зубочистками и ножом из нержавейки для масла, она вырезала и лепила маленькие лежащие или сидящие фигурки, всегда женские, в ярких одеяниях, которыми она разрисовывала их обнаженные формы. Фигурки продавались по пятнадцать – двадцать долларов в двух местных бутиках, один из которых назывался «Тявкающая лиса», другой – «Голодная овца». Александра слабо представляла, кто их покупает, почему и зачем вообще она их лепит, кто водит ее рукой. Дар ваяния снизошел на нее вместе с другими способностями как раз в тот период, когда Оззи предстояло обернуться многоцветной пылью. Александра почувствовала позыв однажды утром, сидя за кухонным столом, когда дети находились в школе, а посуда была уже вымыта. В то первое утро она воспользовалась пластилином одного из детей, но впоследствии работала только с чистейшей глиной, которую сама выкапывала из неглубокой ямы неподалеку от Ковентри, на осклизлом открытом уступе жирной белой земли на заднем дворе некоей старой вдовы, за поросшими мхом развалинами какой-то надворной постройки и ржавым остовом довоенного «бьюика», по странной случайности точно такого же, на каком ее отец ездил в Солт-Лейк-Сити, Денвер, Альбукерк и маленькие городки, затерявшиеся между ними. Он торговал рабочей одеждой – комбинезонами и синими джинсами –
Страница 9
ще до того, как те вошли в моду и стали популярной во всем мире одеждой, вызывающей воспоминания. Просто берешь холщовые сумки, отправляешься в Ковентри и платишь вдове двенадцать долларов за сумку. Если сумки оказывались слишком тяжелыми, вдова помогала ей дотащить их до машины; как и Александра, вдова была сильной. Ей было не меньше шестидесяти пяти, но она красила волосы в медный цвет и носила брючные костюмы бирюзового или пурпурного цвета, такие тесные, что плоть ниже пояса собиралась валиками наподобие колбасок. Это выглядело мило. Александра угадывала в этом послание себе: старость может быть симпатичной, если оставаться сильной. Вдова ржала, как лошадь, и носила огромные золотые серьги-обручи, зачесывая назад медные волосы, чтобы серьги были видны. Пара петухов-забияк гордо и неторопливо вышагивала в высокой траве запущенного двора; задняя стена покосившегося дощатого дома вдовы облупилась, обнажив серую древесину, однако фасад был аккуратно выкрашен белой краской. В своем «субару», проседающем под тяжестью вдовьей глины, Александра всегда возвращалась из этих поездок в приподнятом настроении, оживленной и укрепившейся в уверенности, что мир держится на тайной женской солидарности.В каком-то смысле ее скульптуры были примитивны. Сьюки – или то была Джейн? – окрестила их ее «малышками»: лежащие коренастые женские тела дюймов четырех-пяти в длину, зачастую без лиц и ног, скрюченные в причудливых позах и гораздо более тяжелые, чем можно предположить. Люди считали, что они действуют успокаивающе, и не слишком бурный, но ровный поток покупателей, уносивших их с собой, хоть и был более интенсивным летом, не иссякал даже и в январе. Александра ваяла обнаженные формы, зубочисткой проделывала пупки и никогда не забывала легким намеком обозначить вагинальную щелочку в знак протеста против ханжеской гладкости, которую имели в этом месте те куклы, которыми она играла в детстве. Потом она пририсовывала им одежду – купальные костюмы пастельных тонов, иногда невозможно облегающие платья в горошек, в звездочку или в полоску, напоминавшую морские волны, как их изображают в мультфильмах. Ни одна фигурка не казалась точной копией другой, хотя все они были сестрами. Такой метод диктовало Александре ощущение, что так же как мы каждый день надеваем одежду поверх своей наготы, так и одежду для этих фигурок следует скорее накладывать сверху красками, чем вырезать в этих примитивных скругленных тельцах из мягкой глины. Потом она обжигала их по дюжине зараз в маленькой электрической шведской печке, которая стояла у нее в мастерской, примыкавшей к кухне. Мастерская была не закончена, но в ней имелся деревянный настил в отличие от смежного помещения – кладовки с земляным полом, где хранились старые глиняные горшки, грабли, мотыги, резиновые сапоги и садовые ножницы. Будучи самоучкой, Александра занималась ваянием уже пять лет – со времени, непосредственно предшествовавшего разводу, который способствовал расцвету ее личности, проявившемуся и во многом другом. Ее дети, особенно Марси, но Бен и маленький Эрик тоже, терпеть не могли ее «малышек», считая их непристойными, и однажды в порыве ненависти расколотили целый противень охлаждавшихся после обжига фигурок; но впоследствии смирились с ними, как с дефективными родственниками. Дети – это глина, которая до определенного предела остается податливой; хотя неистребимая гримаса отвращения по-прежнему искажала лица ее отпрысков и они старались избегать взглядом ненавистных фигурок.
У Джейн Смарт тоже имелись артистические наклонности – музыкальные. Чтобы сводить концы с концами, она давала уроки музыки и время от времени замещала капельмейстеров в местных церквах, но ее истинной любовью была виолончель. Вибрирующие меланхолические звуки, беременные печалью древесных волокон и тенистым величием крон, в причудливые теплые лунные ночи вольно лились из забранных ставнями окон ее маленького приземистого деревенского дома, затерявшегося между такими же домишками на кривых улочках в районе Пятидесятых, известных под названием Пещерные дома. Соседи Джейн – муж, жена, ребенок и собака, разбуженные, бродили, бывало, по своему участку в четверть акра, обсуждая вопрос: не вызвать ли полицию? Вызывали они ее редко, приведенные в замешательство и, вероятно, напуганные откровенностью и тоской, пронизывавшими блестящую игру Джейн. Проще, казалось, вернуться в постель и постараться снова уснуть под двойные ноты гамм, сначала в терцию, потом в сексту, под этюды Поппера или повторяющиеся четыре такта слигованных шестнадцатых (когда виолончель звучит почти соло) во втором анданте бетховенского ля-минорного квартета № 15.
Садовником Джейн была никудышным, и запущенные заросли рододендронов, гортензий, туй, барбарисов и самшита вокруг дома скрадывали поток звуков, низвергавшийся из окон. То была эпоха утверждения во всевозможных правах и шумной музыки в общественных местах, когда в каждом супермаркете громко звучали «мьюзаковские»[8 - «Мьюзак» – американский концерн, поставляющий звукозаписи в с
Страница 10
пермаркеты, рестораны, гостиницы, залы ожидания и прочие общественные места.] версии «Сатисфэкшн» и «Я поймал тебя, детка», а стоило двум-трем подросткам собраться вместе, как в воздухе сублимировался дух Вудстока. Однако внимание неотвязно привлекала не громкость, а тембр страсти Джейн, от которой у нее порой путались пальцы, тем не менее, сбившись, она неуклонно повторяла тот же самый пассаж, в той же заданной тональности. У Александры эти звуки ассоциировались с темными бровями подруги и с горячей напористостью ее голоса, безоговорочно требовавшей ответа, изложенного в виде четкой формулы, которая способна ввести жизнь в подобающее русло и ухватить ее тайну, вместо того чтобы, подобно Александре, плыть по течению в полной уверенности, что тайна вездесуща, пронизывает жизнь насквозь, витает в воздухе в качестве его составной, не имеющей запаха, и именно ею питаются птицы и растения.Сьюки не обладала артистическим талантом, но обожала общественную жизнь и, побуждаемая стесненными обстоятельствами, всегда была готова написать об очередном разводе в местный еженедельник «Иствикское слово». Когда она ходила легкой грациозной походкой туда-сюда по Док-стрит, прислушиваясь к сплетням, роскошь магазинов, безобразные скульптуры Александры, выставленные в витрине «Тявкающей лисы», или рекламный плакат в армянском магазине, оповещающий о концерте камерной музыки, который состоится в униатской церкви с участием Джейн Смарт (виолончель), возбуждали ее, словно внезапно сверкнувший в песке на берегу осколок стекла или четвертак, найденный в грязи на обочине, – чудом спасшийся обрывок кода, сгоревшего вместе с мусором повседневного опыта, внезапно сверкнувшая молния, соединившая внутренний и внешний миры. Сьюки любила своих подруг, а они ее. Сегодня, отстучав на машинке отчет о вчерашних собраниях в ратуше совета экспертов по оценке имущества (тоска: все те же старые малоземельные вдовы, клянчащие скидок) и комиссии по планированию (не оказалось кворума: Херби Принс на Бермудах), Сьюки стала с нетерпением ждать Александру и Джейн, которые должны были зайти к ней выпить. Обычно они собирались по очереди в одном из трех домов по четвергам.
Сьюки жила в центре города, это было удобно для работы, хотя ее нынешний дом – миниатюрная постройка 1760 года, двухэтажная с фасада, одноэтажная с тыла, расположенная на кривой улочке, носившей название Хемлок-лейн, в глубине от Оук-стрит, была шагом назад по сравнению с обширной фермерской усадьбой – шесть спален, тридцать акров земли, микроавтобус, спортивный автомобиль, джип, четыре собаки, – в которой они с Монти жили раньше. Но присутствие подруг преображало домишко, окружая аурой ожидания волшебства; для своих сборищ подруги обычно приберегали какую-нибудь необычную, яркую деталь костюма.
Александра появилась из боковой кухонной двери в шитой золотыми нитями парсийской[9 - Парсы – религиозная община зороастрийцев, потомков выходцев из Ирана, в Западной Индии.] шали; в руках, словно гимнастические гири или кровавые улики, она держала две банки острого, пахнущего базиликом томатного соуса.
Ведьмы расцеловались, прижимаясь друг к другу щеками.
– Вот, солнышко. Знаю, что ты больше любишь что-нибудь несладкое, пикантное, но… – сказала Александра тем волнующим гортанным контральто, каким русская женщина произносит слово «было». Сьюки приняла дары-близнецы в свои гораздо более тонкие руки; на бумажных наклейках были заметны выцветшие крапинки. – В этом году помидоры почему-то плодятся как сумасшедшие, – продолжала Александра. – Я уже приготовила около сотни таких банок. А однажды вечером даже вышла в огород и крикнула: «Пропади вы пропадом, пусть все остальное сгниет на корню к чертовой матери!»
– Помню, был год, когда такое же творилось с цукини, – подхватила Сьюки, уважительно ставя банки на полку буфета, где им предстояло остаться навечно.
Как справедливо заметила Александра, Сьюки любила несладкие, пикантные лакомства, сельдерей, кешью, плов, соленые палочки – то, что можно грызть и клевать постоянно, как делали ее обезьяньи предки, карабкаясь по деревьям. Одна она никогда не садилась за стол, а лишь прихлебывала какой-нибудь йогурт с пшеничными коржиками, стоя у кухонной мойки, или забивалась в свою телевизионную «пещеру» с семидесятидевятицентовым пакетом волнистых картофельно-луковых чипсов и стаканом крепкого бурбона.
– Чего я только из них не делала, – говорила Сьюки, с явным удовольствием преувеличивая, ее подвижные руки мелькали где-то на периферии зрения. – Хлеб из цукини, суп из цукини, салат, оладьи, цукини, запеченные в гамбургерах, жаренные ломтиками, нарезанные палочками, чтобы макать их в соус… Это была какая-то дикость. Я даже перемолола огромное количество цукини в миксере и сказала детям, чтобы они намазывали эту кашицу на хлеб вместо арахисового масла. Монти был в отчаянии. Он говорил, что даже его кал воняет цукини.
Хотя последняя фраза лишь косвенно, но не без приятности относилась к дням ее супружества и их изобилию, упоминание о бывш
Страница 11
м муже было в некотором роде нарушением декорума и погасило готовую расцвести на лице Александры улыбку. Сьюки, самая молодая из трех, развелась последней. Она была стройна и рыжеволоса, прямые, ровно подстриженные волосы густой копной лежали на спине, а длинные руки были усеяны веснушками, цветом напоминавшими кедровую древесину, а формой – стружку, остающуюся после заточки карандашей. На запястьях Сьюки носила медные браслеты, на шее – пентаграмму на дешевой тонкой цепочке. Александре с ее тяжеловесными эллинистическими, симметрично расщепленными в двух местах чертами больше всего нравилась в облике Сьюки жизнерадостная обезьянья выпуклость черт: нижняя часть лица под коротким носом из-за крупных зубов выдавалась вперед, а особенно симпатичной казалась нависающая верхняя губа, более широкая и сложная по рисунку, чем нижняя, с припухлостями по бокам, которые придавали ей шаловливое выражение, даже когда Сьюки не улыбалась, – словно ее обладательницу постоянно что-то забавляло. Глаза Сьюки были зеленовато-орехового цвета, круглые и довольно близко посаженные. Она проворно двигалась по своей жалкой крохотной кухоньке, где все громоздилось друг на друга и из-под миниатюрной заляпанной мойки шел запах бедности, оставшийся от многих поколений иствикцев, живших в этом доме и привносивших в обиход свои бессистемные новации в те времена, когда такие вручную сработанные дома, как этот, никто не находил очаровательными.Одной рукой Сьюки достала банку безбожно пересоленных орешков с буфетной полки, другой взяла с сушки, сделанной из обтянутой резиной проволоки и висевшей над мойкой, маленькое блюдо, раскрашенное шотландской клеткой и окантованное медью; высыпала в него орешки. С треском разрывая пакеты, выложила крекеры по краю тарелки, в центре которой красовался солидный кусок сыра гауда в красной оболочке, и поставила на стол плоскую магазинную баночку паштета со смеющимся гусем на этикетке. Тарелка была сделана из грубой бурой глазурованной керамики, вылепленной в форме краба. Рак. Александра боялась этого знака и повсюду в природе находила его подобие: в кустиках черники, росшей в заброшенных местах среди скал и болот, в гроздьях винограда, зреющего на подгнившей и прогнувшейся арке-беседке напротив ее кухонного окна, в конусообразных гранулированных домах-холмиках, которые муравьи строили в расщелинах ее асфальтированной подъездной аллеи, – в любом неосмысленном, но неотразимо влекущем множестве.
– Тебе как обычно? – спросила Сьюки с оттенком нежного сочувствия, потому что Александра, словно была старше, чем на самом деле, со вздохом, не снимая шали, тяжело уронила свое тело в единственное на этой кухне гостеприимное углубление – старое удобное голубое кресло, слишком уродливое, чтобы держать его в каком-нибудь другом месте. Из него постепенно вылезали внутренности, и на подлокотниках образовались сальные серые пятна, оставленные множеством касавшихся их запястий.
– Да, мне все еще требуется что-нибудь тонизирующее, – решила Александра, поскольку холод, вошедший в нее несколько дней назад вместе с грозой, так и не выветрился. – Нет ли у тебя водки?
Кто-то когда-то сказал ей, что водка не только менее калорийна, но и меньше раздражает слизистую желудка, чем джин. А раздражение, как физическое, так и психологическое, провоцирует рак. Он случается у того, кто не защищен от самой идеи его возникновения; ведь для этого и нужна-то всего-навсего одна свихнувшаяся клетка. Природа всегда начеку, наблюдает за тобой, ждет, когда ты утратишь веру, чтобы вонзить в тебя свое смертоносное жало.
Сьюки улыбнулась шире:
– Я ведь знала, что ты придешь. – Она выставила непочатую бутылку джина «Гордонз» с традиционной свирепой головой борова, глядящей круглым оранжевым глазом и высунувшей красный язык между загнутыми клыками.
Александра улыбнулась, глядя на этого дружелюбного монстра.
– И п-больше тоника, п-жалста. Калории!
Бутылка с тоником шипела и пенилась в руке Сьюки, словно хотела напугать. «А может, раковые клетки больше похожи на пузырьки газировки, разносимые током крови?» – подумала Александра. Нужно перестать об этом думать.
– Где Джейн? – спросила она.
– Предупредила, что немного задержится. Репетирует перед концертом у униатов.
– С этим ужасным Неффом, – добавила Александра.
– С этим ужасным Неффом, – эхом отозвалась Сьюки, слизывая с пальцев тоник и шаря другой рукой в холодильнике в поисках лайма.
Реймонд Нефф, преподававший музыку в старших классах, был низеньким толстым изнеженным мужчиной, который, однако, наградил пятерыми детьми свою неопрятную жену-немку с землистой кожей, носившую очки в стальной оправе. Как и большинство хороших учителей, он был тираном, вкрадчивым и назойливым, и желал спать со всеми подряд. В настоящее время с ним спала Джейн. Александра в прошлом несколько раз поддалась ему, но событие это произвело на нее столь незначительное впечатление, что Сьюки, вероятно, даже не уловила ни вибрации, ни следа зрительного образа. Сама Сьюки в присутствии Неффа
Страница 12
вела себя сдержанно, но и она свободна стала не так давно. Быть разведенной в маленьком городе – в некотором роде то же, что играть в «Монополию»: в конце концов последовательно оседаешь во всех владениях. Подруги не одобряли этой связи Джейн, которая всегда продавала себя с неприличной поспешностью. Но больше всего они не любили отвратительную жену Неффа с тусклыми соломенными волосами, коротко подстриженными как будто сенокосилкой, с тщательно выговариваемыми и комически неправильно употребляемыми словами, с привычкой напряженно вслушиваться в каждое слово собеседника, глядя на него в упор выпученными глазами. Когда спишь с женатым мужчиной, в определенном смысле спишь и с его женой, поэтому она не должна быть настолько отталкивающей.– У Джейн такие восхитительные возможности, – автоматически отозвалась Сьюки, забравшись в холодильник и по-обезьяньи яростно стараясь выскрести еще несколько кубиков льда из формочки.
Ведьма может взглядом заморозить воду, но разморозка порой превращается в проблему. Из четырех собак, которых они с Монти держали в лучшую пору своего супружества, две были прыгучими серебристо-коричневыми веймаранами – веймарскими пойнтерами. Одного, по имени Хэнк, Сьюки оставила у себя, и сейчас он жался к ее ноге в надежде, что она сражается с холодильником ради него.
– Но ее жертва напрасна, – завершила фразу за Сьюки Александра. – Это жертва в старомодном смысле слова, – добавила она, поскольку шла война во Вьетнаме, открывшая миру иной, опасный смысл этого слова. – Если Джейн серьезно относится к занятиям музыкой, то ей следовало бы переехать в какое-нибудь серьезное место, в большой город. Это же чудовищное растрачивание себя для выпускницы консерватории – пиликать на струнах для сборища старых глухих куриц в полуразвалившейся церкви.
– Ей здесь спокойно, – объяснила Сьюки тоном, предполагавшим, что им-то – отнюдь нет.
– Она даже никогда не моется. Ты обратила внимание, какой дух от нее исходит? – спросила Александра, имея в виду не Джейн, а Грету Нефф, однако Сьюки не составило ни малейшего труда уловить ассоциацию – их сердца бились на одной волне.
– А эти старушечьи очки! Она в них похожа на Джона Леннона, – подхватила Сьюки и, поджав губы, изобразила печально-торжественную мину, став действительно похожей на Джона Леннона. – «Я тумаю, сто тиапер мы можем выаиппить сфои – sprechen Sie wass?[10 - Что вы сказали? (нем.)] – напиат-тки». – Грета Нефф произносила вместо гласных какие-то немыслимые, совершенно не американские дифтонги, будто катала по нёбу каждую гласную.
Продолжая хихикать, подруги понесли свои стаканы в «пещеру» – маленькую комнатушку со вспученными и выцветшими обоями, разрисованными корзинами фруктов и винограда, с облупившимся оштукатуренным потолком, имевшим странный угол наклона, поскольку комната наполовину уходила под лестницу, ведущую на второй этаж – в нечто вроде мезонина. Единственное окно, расположенное слишком высоко, чтобы женщина могла выглянуть в него, не встав на табурет, было застеклено ромбовидными панелями толстого, пузырчатого и деформированного стекла, какое бывает в донышках бутылок.
– Капустный запах, – продолжала развивать свою мысль Александра, ставя на подлокотник высокий серебристый стакан и опускаясь на двухместный диванчик, застеленный шерстяным покрывалом, расшитым обтрепавшимися вычурными завитками и стилизованными виноградными лозами, из которых во все стороны торчали нитки. – Он исходит даже от его одежды, – продолжала Александра, отметив про себя, что данное замечание отдаленно перекликается с рассказом о Монти и цукини и этой интимной деталью она явно намекает Сьюки на то, что спала с Неффом.
Зачем? Здесь нечем хвастать. Нет, все же есть чем. Как он потел! Кстати, Александра спала и с Монти и никогда не чувствовала запаха цукини. Один из восхитительных моментов адюльтера с чужими мужьями заключается в том, что позволяет взглянуть на жен под иным углом зрения: мужья видят их так, как не видит никто другой. Нефф, например, представлял несчастную омерзительную Грету как по-своему изящную, всю в лентах Хайди, прелестный эдельвейс, сорванный им на романтически опасной высоте (они познакомились во Франкфурте, в пивной, когда он жил в Западной Германии, вместо того чтобы воевать в Корее), а Монти…
Александра покосилась на Сьюки, пытаясь припомнить, что говорил о ней Монти. Вообще-то, стараясь быть джентльменом, он говорил о ней мало. Но однажды, придя к Александре после какой-то дурацкой консультации в банке и все еще находясь под ее впечатлением, проговорился: «Она милая девочка, но несчастливая. Я имею в виду, что она приносит несчастье другим. Себе она явно приносит удачу». И это было правдой. Будучи женатым на Сьюки, Монти потерял бо?льшую часть своих семейных денег, в чем все винили его собственную глупость и неповоротливость. Он никогда не потел. Монти страдал гормональной недостаточностью родовитого человека и неспособностью полагаться на возможности, предоставляемые тяжким трудом. У него было почти безвол
Страница 13
сое тело и мягкие женские ягодицы.– Грета, должно быть, хороша в койке, – говорила между тем Сьюки. – Все эти Kinder…[11 - Дети (нем.).] F?nf[12 - Пять (нем.).] штук, однако.
Нефф поведал Александре, что Грета была горяча, но требовала усилий, разогревалась медленно, но неотвратимо. Она могла бы стать безжалостной ведьмой: ох уж эти кровожадные немцы!
– Мы должны быть к ней добры, – сказала Александра, возвращаясь к Джейн. – Вчера, беседуя с ней по телефону, я была поражена тем, как сердито она говорила. Эта женщина сжигает себя.
Сьюки взглянула на подругу – последняя реплика показалась ей немного фальшивой. Для Александры начиналась новая интрига, замаячил новый мужчина. Воспользовавшись тем, что Сьюки на миг отвлеклась, Хэнк слизал свисающим серым веймаранским языком два пшеничных крекера с крабовой тарелки, которую она поставила на видавший виды сосновый матросский сундучок, заново отполированный неким древним перекупщиком, чтобы его можно было использовать в качестве кофейного столика. Сьюки обожала свои обшарпанные древности; в них было нечто геральдическое, как в костюме из лохмотьев, во втором акте оперы принимающем округлые формы сопрано. Хэнк уже протянул язык к сыру, но Сьюки краем глаза уловила это движение и стукнула собаку по носу, который был резиновый, твердый, как автомобильная покрышка, и от удара больно стало, скорее, ее пальцам.
– Ах ты, паршивец, – сказала Сьюки псу, а потом, обращаясь к подруге, спросила: – Более сердито, чем остальные? – имея в виду их двоих, и шумно прихлебнула неразбавленного бурбона.
Она пила виски зимой и летом по причине, о которой уже забыла. Но причина состояла в том, что когда-то приятель по Корнеллу сказал ей, будто от виски в ее зеленых глазах начинают плясать золотые искорки. По той же тщеславной причине Сьюки любила одеваться во все оттенки коричневого и носить вещи из замши с ее звериным блеском.
– Ну конечно! Мы-то в превосходной форме, – ответила старшая и более крупная из подруг, мысленно дрейфуя от этого иронического замечания к предмету разговора с Джейн – новому мужчине, появившемуся в городе и поселившемуся в доме Леноксов. Но даже в процессе этого дрейфа ее мозг, подобно авиапассажиру, который, несмотря на ощущение смертельно опасной высоты, глядит вниз и любуется точностью эмалевого рисунка и величием Земли (трубы дымоходов на крышах домов такие острые, такие изящные, озера – словно настоящие зеркала, какие под Рождество, пока мы спали, наши родители устанавливали для нас во дворе; и все это настоящее, ведь даже географические карты – настоящие!), отмечал, как хороша была Сьюки – независимо от того, приносит или не приносит она несчастье, – с этими растрепавшимися блестящими волосами, даже с веками, чуть припухшими после тяжелого дня печатания на машинке при резком электрическом свете и поисков нужного слова, с фигурой, облаченной в бледно-зеленый свитер и темную замшевую юбку, – такой прямой и аккуратной, с плоским животом и дерзкой высокой грудью, с упругими ягодицами, – с украшенным крупным широкогубым ртом по-обезьяньи милым лицом, лукавым, живо реагирующим и смелым.
– О, я столько узнала о нем! – воскликнула Сьюки, прочитав мысли Александры. – У меня тонны информации, но я хотела дождаться Джейн.
– Я могу и подождать, – неожиданно сказала Александра, словно ее вдруг обдало холодным сквозняком, почувствовав себя оскорбленной и этим мужчиной, и тем, какое место он занял в ее мыслях. – Это новая юбка? – Ей захотелось прикоснуться к юбке, погладить ткань, напоминающую нежную шерсть лани, и упругое стройное бедро под ней.
– Реанимированная к приходу осени, – ответила Сьюки. – Вообще-то, она длинновата по нынешней моде.
Колокольчик над кухонной дверью издал рваный, прыскающий звук.
– Когда-нибудь из-за этой проводки дом сгорит, – предрекла Сьюки, выбегая из «пещеры».
Но Джейн уже вошла сама. Она выглядела бледной, обвисший пушистый шотландский берет казался слишком большим для ее узкого, с горящими глазами лица; яркая клетка кричаще соответствовала такому же клетчатому шарфу. На ногах у нее были гольфы в рубчик. Физически Джейн не была такой лучезарно-привлекательной, как Сьюки, ее фигура страдала легкой асимметрией, тем не менее от нее, будто свет от накаленной спирали, исходило очарование. Волосы у нее были темными, рот – маленьким, поджатым и решительным. Родом Джейн происходила из Бостона, и в ее облике ощущалось нечто, безошибочно на это указывавшее.
– Этот Нефф такая сука! – произнесла она, словно выплюнула из горла лягушку. – Он сто раз заставил нас повторить Гайдна. Заявил, что у меня жеманная манера исполнения. Жеманная. Я разревелась и сказала ему, что он – мерзкий мужской шовинист. – И, не удержавшись от каламбура, добавила: – А следовало бы сказать, что он педераст.
– Они без этого не могут, – небрежно заметила Сьюки. – Просто это их способ выклянчить чуточку любви. Лекса пьет свой диетический напиток – водку с тоником. Moi[13 - Что касается меня (фр.).], я все глубже утопаю в бурбоне. Что б
Страница 14
дешь ты?– Не надо бы этого делать, но я так чертовски оскорблена, что хочу хоть раз побыть плохой девочкой и попросить мартини.
– Ох, детка, боюсь, у меня нет сухого вермута.
– А сладкий я не пью, рыбка. Тогда налей мне неразбавленного джина со льдом в винный бокал. У тебя, случайно, не найдется дольки лимона?
Холодильник Сьюки был набит льдом, йогуртами и сельдереем, но больше в нем не было ничего. Обедала она в городе, в закусочной «Немо», в трех шагах от редакции, которую отделяли от закусочной лишь рамочная мастерская, парикмахерская и читальный зал «Крисчен сайенс». Вечерами Сьюки питалась там же, потому что в «Немо» можно было узнать все последние сплетни, там иствикская жизнь представала как на ладони. В закусочной собирались старожилы, полицейские, дорожные рабочие, рыбаки – безработные вне сезона, и только что обанкротившиеся бизнесмены.
– Апельсинов, кажется, тоже нет, – сказала Сьюки, выдвигая два липких зеленых металлических овощных лотка. – Но помнится, я покупала груши в придорожной лавке на шоссе номер четыре.
– «Скушаю ли грушу? – процитировала Джейн. – Я в белых брюках выйду к морю, я не трушу»[14 - Т. С. Элиот. Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока. Перевод Андрея Сергеева. В кн.: Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы. М., 2000. С. 21.].
Сьюки поморщилась, глядя, как нервные кисти подруги – одна сухощавая и удлиненная от постоянного перебирания струн пальцами, другая ленивая и широковатая от постоянного вождения смычком – вдавливают в заржавевшую тупую морковную терку розовую часть – румяную щечку – желтой сочной груши. Джейн бросила в бокал ароматную стружку; священная тишина – таинство любого рецепта – усилила тихий бульк.
– Я еще слишком молода, чтобы начинать пить совсем неразбавленный джин, – объявила Джейн с пуританским притворством, хотя вид у нее был при этом измученный и нетерпеливый. После этого она направилась в «пещеру» своей знаменитой быстрой решительной походкой.
Александра с виноватым видом протянула руку и выключила телевизор, где президент, мужчина с серой щетиной на подбородке и страдальчески лживыми глазами, с похоронным видом произносил свое важное обращение к нации.
– Привет, великолепно выглядишь, – сказала Джейн слишком громко для такого маленького срезанного пространства. – Не вставай, вижу, что ты удобно устроилась. А скажи-ка мне, та гроза несколько дней назад – твоих рук дело?
Шкурка груши в перевернутом конусе ее бокала была похожа на кусочек болезненно-лихорадочной заспиртованной плоти.
– После разговора с тобой я поехала на пляж, – призналась Александра. – Хотела посмотреть, вселился ли уже тот человек в дом Леноксов.
– Так и знала, что растревожу тебя, бедный птенчик, – сказала Джейн. – Ну и что, он был там?
– Из трубы шел дым, но близко я не подъезжала.
– Нужно было подъехать и сказать, что ты из комиссии по заболоченным землям, – вставила Сьюки. – В городе говорят, что он хочет построить док, а дальнюю часть острова засыпать и устроить там теннисный корт.
– Ничего у него не выйдет, – лениво возразила Александра. – Это место, где гнездятся снежные цапли.
– Не будь так уверена! – воскликнула Сьюки. – От этого имения в городскую казну уже десять лет не поступали налоги. Для того, кто вернет его в списки налогоплательщиков, члены городской управы изведут сколько угодно снежных цапель.
– Ох, как же здесь уютно! – почти в отчаянии воскликнула Джейн, чувствуя, что ее игнорируют. Поскольку две пары глаз вмиг уставились на нее, пришлось импровизировать. – Грета явилась в церковь, – сообщила она, – в тот самый момент, когда он назвал моего Гайдна жеманным, и начала смеяться.
Сьюки изобразила немецкий смех:
– Хё-хё-хё.
– Интересно, они все еще совокупляются? – безразлично спросила Александра. Чувствуя себя среди подруг непринужденно, она отпустила мысли на волю и черпала образы из самой природы. – Как он это выносит? Она же похожа на перебродившую квашеную капусту.
– Нет! – решительно возразила Джейн. – Она похожа на… как там у них называется это месиво? Жаркое из свинины.
– Они маринуют свинину, – подхватила Александра, – в уксусе, с чесноком, луком и лавровым листом. И еще, кажется, с горошками перца.
– Это он тебе рассказал? – лукаво спросила у Джейн Сьюки.
– Мы об этом никогда не говорим, даже в самые интимные моменты, – чопорно ответила Джейн. – Единственное, чем он поделился со мной: ей необходимо есть это блюдо хотя бы раз в неделю, иначе она начинает бросаться предметами.
– Полтергейст! – восхищенно воскликнула Сьюки. – Полтерфрау.
– Это точно, – согласилась Джейн, не замечая иронии, – ты права. Она невероятно гнусная женщина. Такая педантичная, самодовольная нацистка. Рей – единственный, кто этого не видит, бедняга.
– Интересно, она догадывается? – задумчиво спросила Александра.
– Она не хочет догадыватьс-ся, – заявила Джейн с таким нажимом, что последний слог прозвучал с присвистом. – Если бы она догадалась, нужно было бы что-то предпринимать.
– Например, отлучать его от п
Страница 15
стели, – предположила Сьюки.– И тогда нам всем пришлось бы принять удар на себя, – подхватила Александра, представляя этого толстого мозгляка как торнадо или ненасытный естественный резервуар вожделения. Вожделение изливалось из него сверх всякой меры, заполняя все емкости.
– Ох, держи его покрепче, Грета! – вставила свое слово Джейн, до которой наконец дошел смысл шутки.
Все трое захохотали.
Боковая дверь торжественно хлопнула, и на лестнице раздались медленные шаги. Это был не полтергейст, а кто-то из детей Сьюки, вернувшийся из школы, где его или ее задержала внеклассная деятельность. Телевизор на верхнем этаже ожил и громко забормотал уютным гуманоидным голосом.
Сьюки жадно закинула в рот полную пригоршню соленых орешков и прижала ладонь к губам, но, поскольку она продолжала хохотать, крошки летели во все стороны.
– Кто-нибудь хочет послушать про этого нового мужчину?
– Не то чтобы очень, – ответила Александра. – Мужчины – не решение проблемы, разве мы об этом не договорились?
Сьюки часто замечала, что в присутствии Джейн подруга становилась немного другой, чуть скованной. Наедине со Сьюки она не пыталась скрывать свой интерес к этому мужчине. Общим для обеих женщин было то, что они умели ощущать радость телами, которые, кстати, многие считали красивыми. Александра, которая была значительно (на шесть лет) старше, с самого начала взяла манеру разговаривать с ней по-матерински: Сьюки была игривой болтушкой, Лекса – вальяжной сивиллой. Когда они собирались втроем, Александра обычно доминировала; будучи несколько мрачноватой и медлительной, она заставляла подруг подстраиваться под нее.
– Конечно, они – не решение проблемы, – соглашалась Джейн Смарт. – Но может, они – проблема?
Ее бокал опустел уже на две трети. Кусочек грушевой шкурки напоминал зародыш, которому предстояло превратиться в ребенка и быть выброшенным в сухой внешний мир. За сереющими ромбами стекла черные дрозды шумно упаковывали катящийся к закату день в дорожную сумку сумерек.
Сьюки встала, чтобы сделать сообщение.
– Он богат, – сказала она, – и ему сорок два года. Никогда не был женат, ньюйоркец, происходит из старинного голландского рода. Очевидно, в детстве демонстрировал большие музыкальные способности, а кроме того, был склонен к изобретательству. Огромная комната в восточном крыле дома, где все еще стоит бильярдный стол, и прачечная под ней предназначены им для лаборатории с какими-то мойками из нержавеющей стали, дистиллировочными трубками и всем таким прочим, а в западном крыле, там, где у Леноксов были – как там это называется – оранжереи-теплицы, он хочет устроить японскую баню с огромной утопленной ванной-бочкой, а в стенах сделать проводку для стерео. – Ее круглые глаза, в свете меркнущего дня казавшиеся совершенно зелеными, сверкали сумасшедшими искорками от безумия подобного предприятия. – Джо Марино наняли производить там слесарно-водопроводные работы, и он все это рассказывал вчера вечером, когда им не удалось собрать кворум, потому что Херби Принс уехал на Бермуды, не сказав никому ни слова. Джо был в полной эйфории: никакой предварительной оценки, все – только самое лучшее, цена значения не имеет. Японская бочка из тикового дерева будет восьми футов в диаметре, кроме того, этот человек терпеть не может кафель под ногами, поэтому весь пол будет вымощен какой-то особой мелкозернистой плиткой, которую нужно заказывать в Теннесси.
– Звучит помпезно, – заметила Джейн.
– А имя у этого мота есть? – спросила Александра, думая, как удивительно, что Сьюки одновременно и романтична, и идеально подходит для своей профессии – ведущей колонки сплетен, – а также не будет ли после второй порции водки с тоником у нее болеть голова потом, когда она останется одна в своем обширном фермерском доме, где будет слышно ровное дыхание спящих детей и беспокойный скрежет когтей Коула и лишь холодная луна, злобно пялящаяся в окно, составит компанию ее окоченевшему бессонному духу.
На западе в лиловой дали завывал бы койот, а где-то еще дальше трансконтинентальный поезд, глотая мили, тащил бы змею своих вагонов, и эти звуки вывели бы ее дух за окно, где его бессонница растворилась бы в нежной, выбеленной звездами ночи. А здесь, на этом сердитом, раскисшем от воды востоке, все так близко; ночные звуки обступали ее дом, как колючие заросли. Даже здесь, в уютной норке Сьюки, эти смутно вырисовывающиеся в сумерках женские фигуры подступают так близко, что каждый темный волосок чуть заметных усиков Джейн и каждый поднявшийся дыбом янтарный, чувствительный к атмосферным переменам волосок на длинных предплечьях Сьюки вызывает зуд в глазах Александры. Она ревновала к этому мужчине, сама тень которого так возбуждала ее подруг, ведь прежде по четвергам возбуждала их она, ее царственно-ленивая властность, заполняющая все вокруг и напоминающая кошку, которая в любой момент может оборвать свое мурлыканье и убить.
Раньше подруги вызывали по четвергам фантомы иствикских людишек и заставляли их сновать и кружиться в сме
Страница 16
кающемся воздухе. Находясь в соответствующем после третьего стаканчика настроении, они могли, словно купол, воздвигнуть над собой конус могущества к самому зениту и основанием живота почувствовать, кто болен, кто погряз в долгах, кто любим, кто на грани безумия, кого сжигают страсти, кто отходит во сне от нанесенного жизнью удара; но сегодня ничего такого не будет. Сегодня они неспокойны.– Какая глупость с этим его именем, – говорила между тем Сьюки, глядя вверх на слабеющий дневной свет, льющийся через окно. Она не могла ничего видеть сквозь расположенные слишком высоко да к тому же искажающие вид оконные ромбы, но перед ее мысленным взором стояло единственное на заднем дворе дерево, тонкая молоденькая груша, обремененная плодами – тяжелыми желтыми подвесками – и напоминающая ребенка, обвешанного маскарадными драгоценностями. Каждый день теперь благоухал сеном и спелостью, поздние бледные мелкие астры тлели вдоль дорог, как палые листья. – Вчера все называли его имя, и еще раньше я слышала его от Мардж Перли, оно вертится на кончике языка…
– И у меня тоже, – подхватила Джейн. – Проклятие. Там еще есть одна из этих маленьких приставочек.
– Де, да, ду? – попыталась подсказать Александра.
И вдруг все три ведьмы разом умолкли, осознав, что языки им сковало заклятие более могущественной силы, под властью которой они оказались.
В воскресенье вечером Даррил ван Хорн появился на концерте камерной музыки в униатской церкви – похожий на медведя, темный обликом мужчина с сальными вьющимися волосами, наполовину скрывающими уши и собранными в хвостик на затылке так, что в профиль голова напоминала пивную кружку с непомерно толстой ручкой. На нем были серые фланелевые брюки, мешковато вытянувшиеся на коленях, пиджак из зелено-черного хэррисовского твида в елочку с кожаными заплатками на локтях и розовая оксфордская рубашка с воротничком на пуговках, какие были модны в пятидесятые годы. Завершали наряд несообразно маленькие и остроносые черные мокасины. Он явно приоделся с целью произвести впечатление.
– Значит, вы и есть наша местная скульпторша, – обратился он к Александре во время последовавшего за концертом приема, который был устроен для исполнителей и их друзей в церковном притворе и концентрировался вокруг чаши с безалкогольным пуншем цвета антифриза. Церковь представляла весьма симпатичное на вид строение в стиле греческого ренессанса с крыльцом, козырек которого поддерживали дорические колонны, и приземистой восьмиугольной башней. Находилась она на Кокумскассок-уэй, расположенной параллельно Оук-стрит, в глубине от Элм-стрит. Построили ее конгрегационалисты в 1823 году, но спустя поколение церковь перешла к униатам в результате событий 1840 года. В наш смутный век декадентских доктрин ее интерьер был тем не менее украшен традиционными крестами, но в притворе на стене висел картонный плакат, состряпанный учениками воскресной школы, на котором были изображены египетский крест в виде греческой буквы тау и иероглиф, означающий «жизнь», в окружении четырех треугольных алхимических знаков природных стихий.
Категория «исполнителей и их друзей» включала всех, кроме ван Хорна, однако он сумел проникнуть в притвор. Все знали, кто он, и это придавало ситуации дополнительную интригу. Когда ван Хорн говорил, звук голоса не вполне совпадал с движением губ, и ощущение, будто где-то внутри его артикуляционного аппарата спрятан искусственный механизм, усиливалось странным, неопределенным, каким-то лоскутным впечатлением, которое производили его черты, а также усиленным слюноотделением, сопровождавшим его речь, так что ему приходилось время от времени делать паузы, чтобы провести рукавом по уголкам губ. Тем не менее он держался уверенно, как воспитанный и состоятельный человек, и, разговаривая с Александрой, близко склонялся к ней, чтобы добиться эффекта интимности.
– Ах, это всего лишь безделицы, – ответила Александра, вдруг почувствовав себя маленькой и смущенной перед этой нависающей над ней темной тушей.
Шел как раз тот период месяца, когда она была особенно чувствительна к аурам. Аура этого волнующего незнакомца представлялась ей сияющей, черно-коричневой, похожей на вылезшего из воды бобра, который, отряхиваясь, подпрыгнул и застыл у него за спиной.
– Подруги называют их моими «малышками», – добавила Александра, изо всех сил стараясь не покраснеть. От этих усилий и тесноты набитого людьми помещения она испытала некоторую слабость. Многолюдье и новые мужчины – не то, к чему она была привычна.
– Безделицы? – повторил ван Хорн. – Но когда берешь их в руки, чувствуешь в них столько потенции. – Он вытер губы. – Столько, знаете ли, жизненных соков. Они меня ошеломили. Я скупил все, какие были в… как называется этот магазин? «Крикливая овца»?
– «Тявкающая лиса», – подсказала Александра, – или «Голодная овца», они находятся по обе стороны от парикмахерской через две двери от нее – это если вам когда-нибудь понадобится подстричься.
– Если это будет зависеть от меня, то никогда. Стрижка ист
Страница 17
щает мою силу. Мама называла меня Самсоном. Да, я купил их в одном из этих магазинов. Купил все, что у них было, чтобы показать своему приятелю, вот уж действительно раскованному, потрясающему парню, который держит галерею в Нью-Йорке, прямо на Пятьдесят седьмой улице. Не могу вам ничего обещать, Александра, – вы не возражаете, можно мне так вас называть? – но, если вы займетесь более крупными формами, уверен, мы сможем организовать вам выставку. Быть может, вы никогда не станете Марисоль[15 - Эскобар Марисоль (р. 1930) – скульптор; француженка венесуэльского происхождения, живущая с 1950 г. в Нью-Йорке.], но Ники де Сен-Фалль[16 - Ники де Сен-Фалль (1930–2002) – француженка, скульптор и график, считающая себя ученицей Анри Матисса.] станете наверняка. Знаете, эти ее многочисленные «Нана»… в них есть масштаб. Я хочу сказать, что она действительно раскованна, а не просто валяет дурака.С некоторым облегчением Александра отметила, что этот человек ей вовсе не нравится. Развязный, грубый трепач. То, что он скупил ее всю на корню в «Тявкающей лисе», напоминало грабеж. Теперь придется выпекать в печи новую партию фигурок раньше, чем она планировала. Воздействие, которое оказывала его личность, усилило спазмы, не дававшие Александре спать все утро и появившиеся за несколько дней до положенного срока; это было одним из предвестий рака – нарушение цикла. Кроме того, от жизни на западе она унаследовала достойное сожаления предубеждение против индейцев и чиканос[17 - Чиканос – американцы мексиканского происхождения.], а, на ее взгляд, Даррил ван Хорн выглядел нечистым. На его коже можно было разглядеть черные крапинки, словно он был полутоновой репродукцией.
Ван Хорн вытер губы волосатой тыльной стороной ладони; его рот кривился от нетерпения, пока Александра с трудом подыскивала честный, но вежливый ответ. Иметь дело с мужчинами было работой, тяжелой работой, выполнять которую она ленилась.
– Я не хочу быть второй Ники де Сен-Фалль, – сказала она наконец. – Я хочу оставаться собой. Их потенция, как вы выразились, происходит именно оттого, что они достаточно малы, чтобы поместиться в руке.
От ускоренного тока крови капилляры ее лица пылали; Александра мысленно улыбнулась: и чего это она так разволновалась, ведь понимала умом, что этот мужчина – фальшивка, видимость. Если не принимать во внимание его деньги; они, судя по всему, реальны.
Глаза ван Хорна были маленькие и водянистые, веки казались воспаленными.
– Да, Александра, но вы-то! Мысля малым, вы и себя умаляете. С этой своей магазинно-подарочной ментальностью вы не даете себе шанса. Я поверить не мог, что они так дешевы – каких-то вшивых двадцать долларов, в то время как вам следовало бы оперировать пятизначными цифрами.
Он вульгарен, как все ньюйоркцы, мысленно заметила она, и ей стало жалко его, осевшего в этой утонченной провинции. Припомнилась струйка дыма, такая хрупкая и отважная.
– Как вам нравится ваш новый дом? – снисходительно спросила Александра. – Хорошо устроились?
– Это ад! – бурно отреагировал ван Хорн. – Я встаю поздно, потому что мысли посещают меня обычно по ночам, но каждое утро около четверти восьмого являются эти паскудные рабочие! Со своими паскудными радиоприемниками! Простите мне мой жаргон.
Казалось, он вполне отдает себе отчет в том, что нуждается в снисхождении; это понимание обволакивало его, сквозило в каждом неуклюжем, слишком настойчивом жесте.
– Вы должны навестить меня и осмотреть дом, – сказал ван Хорн. – Мне нужен совет по части устройства имения в целом. Всю жизнь я жил в апартаментах, где все заранее решено за тебя, а подрядчик, которого я нанял, – олух.
– Джо?
– Вы его знаете?
– Его все знают, – ответила Александра. Надо бы, чтобы кто-нибудь объяснил этому чужаку, что оскорблять местных – не лучший способ завести друзей в Иствике.
Но его болтливый язык не знал удержу.
– Тот, что постоянно ходит в смешной шляпе?
Александре пришлось утвердительно кивнуть, однако от улыбки она воздержалась. Иной раз ей тоже казалось, что Джо не снимает свою пресловутую шляпу, даже когда они предаются любви.
– Он постоянно отлучается поесть, – продолжал ван Хорн. – И единственное, о чем ему интересно говорить, так это о том, как «Красные носки» опять провалили все подачи, а «Ирландцы» до сих пор не сумели наладить защиту. Нельзя сказать, что и в плиточных работах парень маг и чародей. Эти плиты, практически мраморные, доставленные из Теннесси, бесценны, а он половину из них уложил нешлифованной стороной вверх, той, на которой видны следы карьерной пилы. На Манхэттене таких варваров, которых вы здесь называете рабочими, профсоюз не держал бы и дня. Не обижайтесь, вижу, вы думаете: «Какой сноб». Я понимаю, что этой деревенщине, которая только и знает, что курятники лепить, не хватает практики, однако неудивительно, что этот штат имеет такой потусторонний облик. Слушайте, Александра, между нами: я без ума от раздраженно-ледяного вида, который вы принимаете, когда обижаетесь, я просто теряю дар р
Страница 18
чи. И потом, у вас такой симпатичный кончик носа. – Неожиданно протянув руку, он притронулся к ее чуть раздвоенному кончику носа, в отношении которого Александра была особо чувствительна.Прикосновение оказалось таким быстрым и неприличным, что она не поверила бы, что оно на самом деле имело место, если бы не морозное покалывание, которое осталось после него.
Ван Хорн не просто не нравился ей, она его ненавидела и тем не менее стояла и улыбалась, чувствуя себя загнанной в западню, близкой к обмороку и стараясь уловить, что подсказывало ей ее нутро.
Подошла Джейн Смарт. По случаю выступления, во время которого ей приходилось широко расставлять ноги, она – единственная из присутствовавших женщин – была в длинном платье из блестящего мокрого шелка с кружевной отделкой, немного напоминающем свадебное.
– О, l’artiste![18 - Артистка (фр.).] – воскликнул ван Хорн и схватил ее руку – не как для рукопожатия, а как маникюрша берет кисть клиента, чтобы получше ее рассмотреть: он распластал пальцы Джейн на своей широкой ладони, но тут же оттолкнул их – ему была нужна ее левая рука с сухощавыми пальцами, подушечки которых от постоянного соприкосновения с виолончельными струнами словно покрылись глазурью. Он нежно зажал ее между своими волосатыми кистями наподобие сандвича. – Какая певучесть! – сказал он. – Какое вибрато, какое скольжение! Нет, правда. Вы, наверное, думаете, что я несносный придурок, но я действительно знаю толк в музыке. Это единственное, перед чем я благоговею.
Темные глаза Джейн просветлели и лучезарно засияли.
– А вы не находите мою музыку жеманной? – спросила она. – Наш руководитель утверждает, что моя манера исполнения жеманна.
– Какой тупица! – бросил ван Хорн, вытирая слюну, скопившуюся в уголках рта. – В вашем исполнении есть аккуратность, но это совсем не обязательно означает жеманность; аккуратность возникает там, где начинается страсть. А без аккуратности – beaucoup de rien[19 - Какой толк, кому это нужно (букв.: много из ничего) (фр.).], так ведь? Ваш большой палец твердо прижимает струну даже в той позиции, в какой у большинства мужчин он начинает дрожать и соскальзывать, потому что это больно. – Он поднес поближе к глазам ее левую руку и погладил край большого пальца. – Видите это? – обратился он к Александре, протянув ей руку Джейн так, словно она была отдельным от тела предметом, достойным восхищения. – Какая прекрасная мозоль!
Джейн отдернула руку, почувствовав, что на них смотрят. Униатский священник Эд Парсли заметил эту сцену. Но ван Хорн, похоже, хотел привлечь внимание публики, потому что, отпустив безвольно упавшую левую руку Джейн, тут же схватил правую, без присмотра висевшую вдоль тела, и затряс ею перед изумленным лицом хозяйки.
– Вот эта! – почти прокричал он. – Именно эта рука подкладывает ложку дегтя в бочку меда. Как вы работаете смычком! О боже! Ваши спиккато звучат как маркато, ваши легато – как деташе[20 - Музыкальные термины, обозначающие манеру исполнения фрагмента (спиккато и деташе – только для струнных инструментов, легато и маркато – для всех).]. Солнышко, надо слитно исполнять фрагменты, вы же играете не отдельные ноты, одну за другой, пам-пам-пам, вы слагаете музыкальные фразы, вы извлекаете из инструмента крики человеческой души!
Тонкий рот Джейн открылся в немом вопле, и Александра увидела, как слезы собираются в оптические линзы на ее глазах, коричневый цвет которых – цвет черепашьего панциря – всегда оказывался чуть светлее, чем помнилось.
Подошел преподобный Парсли. Это был моложавый мужчина, в чьем облике смутно угадывалась печать рока. Его лицо выглядело как красивое, но чуть искаженное кривым зеркалом, – расстояние между короткими бачками и ноздрями казалось слишком длинным, словно кто-то вытягивал лицо в этом направлении, на полных выразительных губах навечно застыла улыбка человека, понимающего, что он попал не туда, стоит не на той автобусной остановке, в стране, где говорят на никому неведомом языке. Хотя Парсли едва перевалило за тридцать, он был слишком стар, чтобы стать солдатом движения погромщиков витрин и курильщиков ЛСД, и это усугубляло его ощущение неприкаянности и неадекватности, хотя он исправно организовывал марши мира, служил всенощные, читал догматы веры и призывал паству, состоявшую из унылых, покорных душ, превратить свою старую милую церковь в приют для уклоняющихся от службы в армии молодых людей – с койками, горячей пищей и биотуалетами. Однако вместо этого в церкви, где по случайности оказалась великолепная акустика – эти былые строители, видимо, знали какой-то секрет, – устраивались изысканные культурные мероприятия. Но Александра, выросшая в пустынном краю, ставшем местом действия тысяч ковбойских фильмов, была склонна думать, что прошлое часто излишне романтизируют и, когда оно было настоящим, в нем ощущалась та же утонченная пустота, какую мы чувствуем теперь.
Эд поднял голову – он был невысок ростом, что составляло еще один источник его огорчений, – и насмешливо посмотрел на Даррила ван Хор
Страница 19
а. Потом обратился к Джейн Смарт с решительно отвергающей его суждения интонацией:– Прекрасно, Джейн. Вы все четверо играли просто чертовски здорово. Как я только что сказал Клайду Гейбриелу, жаль, что мы не смогли лучше организовать рекламу, собрать больше слушателей из Ньюпорта; хотя я знаю, что его газета сделала все, что могла, он воспринял это как критику. Вообще, он в последнее время похож на человека, пребывающего на грани срыва.
Александра знала, что Сьюки спала с Эдом, а Джейн, возможно, спала с ним раньше. У мужчин, с которыми женщина когда-либо, пусть и давно, спала, голос в их присутствии приобретает особое качество: в нем, как в некрашеной деревяшке, оставленной под дождем, проявляется структура. Аура Эда – Александра невольно продолжала замечать ауры, это видение всегда сопровождало ее менструальные циклы – испускала нездоровые зеленовато-желтые волны беспокойства и самовлюбленности, которые шли от его волос, зачесанных на строгий пробор и выглядевших бесцветными, хотя седины в них не было. Джейн продолжала бороться со слезами, так что в сложившейся неловкой ситуации Александре пришлось взять на себя роль поручителя этого странного чужака и представлять мужчин друг другу.
– Преподобный Парсли…
– Бросьте, Александра. Мы же друзья. Зовите меня Эдом, пожалуйста.
Сьюки наверняка рассказывала подругам о недолгом периоде их интимной близости, поэтому Парсли считал себя близким знакомым. Постоянно сталкиваешься с людьми, которые знают тебя лучше, чем ты их; люди любят все разнюхивать. Александра не могла заставить себя произнести «Эд», ее отталкивала аура обреченности, витавшая вокруг него.
– …А это мистер ван Хорн, который только что поселился в доме Леноксов, вы, вероятно, слышали.
– Да, слышал и приятно удивлен вашим появлением здесь, сэр. Никто не говорил, что вы – любитель музыки.
– И это еще слабо сказано, сэр. Очень рад, преподобный. – Он протянул священнику руку, и тот вздрогнул, отвечая на рукопожатие.
– Никаких «преподобных», прошу вас. Все, друзья и враги, называют меня Эдом.
– Эд, у вас шикарная старинная церковь. Вам, должно быть, стоит кучу денег страховать ее от пожара.
– Господь – наш страхователь, – пошутил Парсли, и его болезненная аура расширилась от удовольствия при подобном богохульстве. – Но если говорить серьезно, такое строение невозможно переделать, а пожилые прихожане жалуются на большое количество ступенек. Есть люди, которые не могут петь в церкви только потому, что не в состоянии подняться на хоры. Кроме того, на мой взгляд, такая роскошь, пробуждающая все эти традиционные ассоциации, мешает восприятию послания, которое современная униатско-универсалистская церковь пытается донести до паствы. Чего бы я хотел, так это открыть церковь в торговом центре города, прямо на Док-стрит. Именно там собирается молодежь, а бизнес и коммерция делают свое грязное дело.
– А что в нем грязного?
– Простите, я не расслышал вашего имени.
– Даррил.
– Даррил, вижу, вы любитель подначивать. Вы человек искушенный и знаете не хуже меня, что связь между зверствами, которые творятся сейчас в Юго-Восточной Азии, и этим новым отделением для автомобилистов, которое «Оулд-Стоун бэнк» открыл рядом с магазином «Бей-Сьюперетт», прямая и непосредственная; зачем же мне зря сотрясать воздух?
– Вы правы, приятель, незачем, – ответил ван Хорн.
– Когда говорит Мамона, дядя Сэм пляшет от радости.
– Аминь, – заключил ван Хорн.
Как приятно, подумала Александра, когда мужчины разговаривают друг с другом. Какая агрессивность: один на другого – грудью. Она испытывала такое же возбуждение, как однажды во время прогулки по лесу, когда набрела на следы мечущихся когтей в песчаной пещере и нашла несколько вырванных перьев, свидетельствовавших о состоявшейся там смертельной схватке. Эд Парсли видел в ван Хорне тип банкира, орудие системы, и яростно сражался с замеченным в глазах более крупного самца пренебрежением к нему как к визгливому и никчемному либералу, беспомощному посреднику несуществующего Бога. Эд хотел быть представителем другой системы, не менее свирепой и широко разветвленной. Словно бы для того, чтобы терзать себя, он носил воротничок священника, в котором его шея выглядела тощей и какой-то детской. Для его конфессии такой воротник был настолько необычен, что по-своему знаменовал вызов.
– Я не ослышался? – продолжал Парсли высокопарно, голосом, исполненным мрачной подозрительности. – Вы выступили здесь с критикой игры Джейн на виолончели?
– Только по части владения смычком, – ответил ван Хорн неожиданно робко, как побежденный, а его челюсть отвисла и по-фиглярски задергалась. – Я сказал, что в остальном исполнение было великолепным, просто движению ее смычка не хватает плавности. Господи, здесь нужно постоянно следить за собой, чтобы не наступить кому-нибудь на любимую мозоль! Я в разговоре с милейшей Александрой упомянул, что мой подрядчик-олух недостаточно расторопен, так выяснилось, что он – ее лучший друг.
– Не лучший, а просто друг, –
Страница 20
осчитала необходимым внести поправку Александра.Даже во время замешательства, вызванного перепалкой, она отметила, что этот мужчина владел даром вывести женщину из себя, заставить ее сказать больше, чем она намеревалась. Вот обидел Джейн, а та смотрит на него влажными от слез глазами с обожанием, как выпоротая собака.
– Бетховен прозвучал особенно восхитительно, вы не согласны? – Парсли продолжал наступать на ван Хорна, чтобы заставить его так или иначе уступить и тем самым подготовить почву для соглашения, на основе которого они могли бы встретиться в следующий раз.
– Бетховен, – промолвил здоровяк с усталой снисходительностью, – продал душу за то, чтобы написать эти последние квартеты. Он был глух как пень. Все эти типы из девятнадцатого века продавали свои души. Лист. Паганини. То, что они делали, – это нечто нечеловеческое.
К Джейн вернулся дар речи.
– Я репетировала до крови в пальцах, – сказала она, не отводя взгляда от губ ван Хорна, которые он только что снова вытер рукавом. – Все эти ужасные шестнадцатые во втором анданте…
– Продолжайте тренироваться, Джейни. Как вы знаете, на пять шестых весь фокус в памяти мышц. Только когда память мышц вступает в права, сердце может начинать свою песню. До того вы загнаны в угол. Просто повторяйте движения снова и снова. Послушайте, почему бы вам как-нибудь не заглянуть ко мне? Мы бы позабавились немного этими вещичками старины Людвига для фортепиано и виолончели. Ля-мажорная соната – прелесть, если вас не пугают легато. Или ми-минорная Брамса: fabuloso[21 - Потрясающе, сказочно (ит.).]. Quel schmalz![22 - Quel – какой, что за (фр.); Schmalz – топленое сало, смалец (нем.).] Думаю, он еще сохранился в этих старых пальцах. – Он помахал пальцами перед их лицами. Руки у ван Хорна под волосяным покровом были на удивление белыми, словно обтянутыми плотными хирургическими перчатками.
Желая справиться с неловкостью, Эд Парсли обернулся к Александре и с наигранно-заговорщическим видом произнес:
– Кажется, ваш друг знает все на свете.
– На меня не смотрите – я познакомилась с этим джентльменом только что, – ответила Александра.
– В детстве он был вундеркиндом, – вставила Джейн Смарт почему-то сердито и обиженно.
Ее обычно весьма унылая грязновато-розовая аура претерпела решительную перемену, покрывшись светло-лиловыми полосами, предвещавшими возбуждение, хотя было неясно, кто именно из мужчин стал его причиной. В глазах Александры весь притвор клубился перемешивающимися и пульсирующими аурами, от которых ее тошнило, как от сигаретного дыма. У нее кружилась голова, она чувствовала себя разочарованной. Ей захотелось очутиться дома, с Коулом, возле своей тихо тикающей печки, ощутить привычную прохладу и влажную эластичность глины в холщовых сумках, которые она приволокла из Ковентри. Александра закрыла глаза, мечтая, чтобы эта специфическая окружающая ее атмосфера возбуждения, неприязни, крайней уязвимости и злой воли, которая исходила отнюдь не только от темного незнакомца, рассосалась.
Несколько престарелых прихожан протиснулись вперед, чтобы получить свою долю внимания преподобного Парсли, и, дабы сделать им приятное, он повернулся к ним лицом. Седые перманенты женщин в глубине завитков отливали нежнейшим золотом и голубизной. Реймонд Нефф, обильно потея и сияя от успеха, подошел к ним и, молча насладившись хором восторженных комплиментов, весело уволок в сторонку Джейн, свою любовницу и соратницу по музыкальным баталиям. У нее после изматывающего концерта плечи и шея тоже блестели от пота. Это показалось Александре трогательным. И что Джейн нашла в Реймонде Неффе? Да, кстати, и Сьюки – что она нашла в Эде Парсли? Когда эти двое мужчин находились рядом с Александрой, ее ноздри улавливали зловонный запах, в то время как кожа Джо Марино пахла чем-то кисловато-сладким вроде прокисшего молока. Так пахнет детское темечко, когда прижимаешься щекой к его покрытому пушком костистому теплу.
Внезапно они с ван Хорном снова оказались одни, и Александра испугалась, что придется опять испытать жалостную смутную тяжесть в груди от разговора с ним; но Сьюки, которая не боялась ничего, такая розовато-коричневая, хрустящая и тускло мерцающая в своей коронной роли репортера, пробившись сквозь толпу гостей, без промедления приступила к интервью.
– Что привело вас на этот концерт, мистер ван Хорн? – с ходу спросила она после того, как Александра, смущаясь, представила их друг другу.
Последовал угрюмый ответ:
– У меня не работает телевизор.
Александра сообразила: он предпочитает, чтобы инициатива исходила от него, но Сьюки была неудержима, когда входила в репортерский раж и ее нахальное обезьянье личико, как сейчас, сияло, словно новенький пенни.
– А что привело вас в этот уголок земли? – прозвучал следующий вопрос.
– Похоже, для меня наступило время покинуть Готам[23 - Готам – название вымышленного города из детского стихотворения. В шутку американцы иногда так называют Нью-Йорк.], – ответил он. – Слишком уж часто там грабят на улицах
Страница 21
и арендная плата скачет до небес. Здесь же цены вполне разумные. Вы собираетесь напечатать это в какой-то газете?Облизнув губы, Сьюки призналась:
– Вероятно, упомяну в колонке, которую веду в газете «Слово», ее здесь называют «Глазами и ушами Иствика».
– Господи Исусе! Не делайте этого! – воскликнул здоровяк в мешковатом твидовом пиджаке. – Я и приехал-то сюда для того, чтобы укрыться от публичности.
– Можно поинтересоваться: публичности какого рода?
– Если я вам скажу, это еще больше будет способствовать публичности, не так ли?
– Возможно.
Александра восхищалась веселой смелостью подруги. Медно-рыжая аура Сьюки сливалась с сиянием ее волос. Поскольку ван Хорн, казалось, собирался уже отвернуться, она спросила:
– Говорят, вы изобретатель. Что вы изобретаете?
– Вещества. В основном это имеет отношение к химикалиям. Даже если я потрачу целый вечер на то, чтобы объяснить вам это, вы все равно не поймете.
– А вы попробуйте, – подзадорила его Сьюки. – Посмотрим, может, и пойму.
– И напечатаете в своих «Глазах и ушах»? С таким же успехом я мог бы сочинить рекламный проспект.
– «Слово» не читают нигде за пределами Иствика, ручаюсь. Да и в Иствике его никто не читает – просматривают лишь рекламу и ищут упоминания о себе.
– Послушайте, мисс…
– Ружмонт. Миссис – я была замужем.
– И кто это был – канадец французского происхождения?
– Монти утверждал, что его предки – швейцарцы. Он и вел себя как швейцарец. Кстати, у швейцарцев действительно квадратные головы?
– Вы меня озадачили. Я всегда думал, что такие головы у маньчжур. У них черепа как цементные блоки, вот почему Чингисхану удалось так аккуратненько сложить их в штабеля.
– Вам не кажется, что мы слишком далеко отклонились от темы?
– Об изобретениях? Послушайте, я не могу говорить. За мной наблюдают.
– Как завлекательно! – воскликнула Сьюки, очаровательно вытянув в улыбке верхнюю губу так, что обнажилась полоска яркой, здоровой десны и сморщился носик. – Ну а если не для всех, а только для моих глаз и ушей? И Лексы, конечно. Вы не находите, что она великолепна?
Ван Хорн чопорно повернул свою большую голову, будто желая проверить; Александра увидела себя его налитыми кровью, моргающими глазами, словно в другой конец телескопа: пугающе крохотная фигурка, там и сям рассеченная надвое, с седыми космами. Он предпочел ответить на предыдущий вопрос Сьюки:
– В последнее время я много занимался предохранительными покрытиями – лаком для полов, на котором, когда он застывает, не остается царапин даже от остро заточенного мясницкого ножа. Покрытием, которое можно распылять на поверхность докрасна раскаленной стали для ее охлаждения. Оно соединяется с молекулами углерода и предохраняет корпус вашего автомобиля от окисления: прежде наступит усталость металла, чем ваша машина проржавеет. Синтетические полимеры – имя вашего прекрасного нового мира, душечка, и он уже катится на нас. Бакелит изобрели в тысяча девятьсот седьмом году, синтетический каучук – в десятом, нейлон – около тридцатого. Обратите внимание на даты, если вы пользуетесь этими материалами. Нынешний век – лишь младенчество; синтетические полимеры будут сопровождать нас до наступления миллионного года или, по крайней мере, до тех пор, пока мы не взорвем себя, – в зависимости от того, что случится раньше. Их прелесть заключается в том, что сырье для них можно выращивать, а когда не останется свободной земли, ею можно будет выращивать в океане. Вот так, мать-природа, мы победили тебя. Работаю я также и над великим сопряжением.
– Что такое великое сопряжение? – не постеснялась спросить Сьюки.
Александра лишь кивнула, будто ей это было известно. Ей еще многому предстояло научиться по части преодоления искусственно навязанных женщине культурой условностей поведения.
– Это сопряжение солнечной и электрической энергий, – пояснил ван Хорн для Сьюки. – Должна существовать формула такого взаимодействия, и когда-нибудь мы найдем ее, а это позволит управлять всеми бытовыми приборами в вашем доме прямо с крыши, и останется еще достаточно энергии для того, чтобы ночью заряжать ваш электромобиль. Чистая, неисчерпаемая и даровая энергия. Она уже на подходе, душечка, уже на подходе!
– Эти солнечные панели так уродливы, – сказала Сьюки. – Здесь есть один хиппи, который установил такую у себя над гаражом, чтобы греть воду. Понятия не имею зачем, он никогда не моется.
– Я говорю не о солнечных коллекторах, – уточнил ван Хорн, – не об этой ерунде модели «Т». – Он огляделся вокруг, его голова вращалась, как бочонок, перекатываемый на ободе. – Я говорю о краске.
– О краске? – переспросила Александра, чувствуя, что и ей пора внести свою лепту. По крайней мере, этот мужчина давал ей новую пищу для ума, не все же о томатном соусе думать.
– О краске, – серьезно подтвердил он. – О простой краске, которую наносят кистью и которая превращает весь эпидермис вашего очаровательного дома в огромную низковольтную батарею.
– Это можно назвать лишь одним словом,
Страница 22
– сказала Сьюки.– Да? Каким?
– Электрификация.
Ван Хорн притворился оскорбленным.
– Знал бы, что вы способны из кокетства говорить лишь такие глупости, не стал бы тратить время и выворачиваться наизнанку! Вы играете в теннис?
Сьюки вытянулась и стала чуть выше. Александре захотелось погладить плоскость, начинавшуюся из-под груди и спускавшуюся ниже талии подруги, так иногда непреодолимо хочется протянуть руку и погладить живот лежащей на спине и потягивающейся кошки, у которой от мышечного экстаза подрагивают задние лапки. Сьюки была так чудесно слеплена.
– Немного, – ответила Сьюки, чуть высунув в улыбке язычок, который на миг прилип к ее верхней губе.
– Тогда заезжайте ко мне недельки через две. Я строю корт.
Александра словно очнулась.
– Топь засыпать нельзя, – сказала она.
Медведеподобный чужак вытер губы и неприязненно уставился на нее.
– Когда топь засыпана, она уже не топь, – невнятно проартикулировал он.
– Там, в мертвых вязах на задах имения, гнездятся снежные цапли.
– ПО ФИГУ, – отчеканил ван Хорн. – Мне это по фигу.
Заметив неожиданный блеск в его глазах, Александра подумала: не носит ли он контактные линзы? Казалось, в процессе разговора его постоянно отвлекали невольные усилия, которые приходилось прилагать, чтобы держать себя в собранном состоянии.
– О! – воскликнула Александра, у которой и без того чуть кружилась голова, а то, что она заметила, добавило ощущение, будто она смотрит в глубокий колодец.
Окружавшая ван Хорна аура исчезла. Теперь вокруг головы с сальными волосами ничего не было, как у мертвеца или деревянного идола.
Сьюки звонко рассмеялась. Ее изящный круглый животик вздувался под корсажем замшевой юбки синхронно колебаниям диафрагмы.
– Какая прелесть! Можно мне вас процитировать, мистер ван Хорн? «Засыпанная топь уже не топь», – утверждает загадочный новый горожанин.
Александра с неприязнью отвернулась от этого танца. Ауры остальных присутствующих стали размытыми, как свет придорожных фонарей в залитом дождем лобовом стекле. Какая глупость: Александра ощутила внутри дурацкое влажное облако назревающей помимо ее воли страстной влюбленности. Этот здоровяк был средоточием желаний, воронкой, высасывающей сердце из ее груди.
Старая миссис Лавкрафт, окутанная кричаще-пурпурной аурой человека, безоговорочно довольного жизнью и полностью готового отбыть на небеса, подошла к Александре и проблеяла:
– Сэнди, дорогая, мы в клубе садоводов соскучились по вас. Вы не должны избегать общества.
– А разве я избегаю? Просто я была занята – варила томатный соус. Невероятно, с какой силой нынешней осенью плодятся помидоры!
– Я знаю, какая вы садовница. Мы с Хорасом восхищаемся вашим домом каждый раз, когда проезжаем по Орчад-роуд: у вас такая ладненькая клумбочка перед входом, вся усыпанная бутонами карликовых хризантем… Несколько раз я даже говорила ему: «Давай зайдем», но потом понимала – нет, нельзя, у вас могли быть свои дела, и мы не хотели нарушать вашего вдохновения.
«Мол, лепит свои фигурки или занимается любовью с Джо Марино – вот что имеет в виду Фрэнни Лавкрафт», – подумала Александра. В таком городке, как Иствик, секретов не бывает – только островки, признаваемые неприкасаемыми. Когда они с Озом были еще вместе и только что поселились здесь, то проводили немало вечеров в компании таких старых зануд, как Лавкрафты. Теперь Александра чувствовала себя напрочь выпавшей из мирка добропорядочных и отчаянно скучных развлечений, которые они олицетворяли.
– Я непременно буду ходить на собрания зимой, когда больше нечего будет делать, – милостиво промолвила Александра. – Когда мне опостылит природа, – добавила она, отдавая себе отчет в том, что не пойдет туда никогда, поскольку бесконечно далека от подобного рода пресных удовольствий. – Мне очень нравится смотреть слайды английских парков. Вы все еще их показываете?
– О, вы должны прийти в следующий четверг! – настойчиво сказала Фрэнни Лавкрафт, преувеличенно жестикулируя, как люди, имеющие хоть малейший вес в обществе, – вице-президенты сберегательных банков, внучки капитанов океанских лайнеров. – Сын Дейзи Робертсон, Уорвик, только что вернулся после трех лет пребывания в Иране, где они с его прелестным семейством так чудесно проводили время. Он работал там советником – что-то связанное с нефтью. Говорит, что шах творит чудеса, в самом центре их столицы построены восхитительные дома современной архитектуры – ах, как же она называется, их столица, чуть не сказала «Нью-Дели»…
Александра не стала ей помогать, хотя знала название – Тегеран, в нее будто вселился дьявол.
– Впрочем, не важно, в любом случае Вики собирается устроить показ слайдов, и все будут сидеть на восточных коврах. Видите ли, милая Сэнди, по арабским представлениям ковер – это сад, сад внутри дома, внутри шатров и дворцов, затерянных в пустыне, и на этих коврах вытканы узоры из настоящих цветов, хотя стороннему взгляду они могут показаться абстрактными. Ну не очаровательно ли это?
– Очарователь
Страница 23
о, – подтвердила Александра.Миссис Лавкрафт украсила свою дряблую шею, изборожденную складками и канавками, как размытое дорожное покрытие, ниткой искусственного жемчуга, в центре которой красовалась подвеска: античное перламутровое яйцо с искусной инкрустацией в форме креста. Почувствовав раздражение, Александра сконцентрировалась и усилием воли заставила потертую старенькую нитку лопнуть; фальшивые жемчужины посыпались на обвисшую грудь старухи, а оттуда каскадами низверглись на пол.
Пол в церковном притворе был затянут ковровым покрытием уныло-зеленого цвета гусиного поноса; он приглушил стук жемчужин. Не все присутствующие сразу обратили внимание на случившееся бедствие, поначалу только те, кто стоял поблизости, бросились собирать драгоценности. Сама миссис Лавкрафт с лицом, побелевшим от ужаса под пятнами румян, была слишком скована артритом и потрясением, чтобы наклониться. Александра, стоя на коленях у опухших от водянки ног старой дамы, злобно повелела туго застегнутым перепонкам ее некогда модных туфель из крокодиловой кожи расстегнуться. Злобные проделки были для нее как еда: начав, ей было трудно остановиться, ее нутро раздавалось вширь, требуя все больше и больше пищи. Распрямившись, Александра вложила полдюжины собранных жемчужин в дрожащие, с посиневшими костяшками, жадно протянутые ковшиками ладони своей жертвы, после чего повернулась и пошла прочь сквозь расширившийся круг присевших на корточки собирателей. Эти припавшие к полу фигуры напоминали гигантские, гротескные кочаны капусты, состоящие из мышц, одежды и алчности; их ауры смешались в единое серое пятно, словно растекшиеся акварельные краски. Путь к выходу Александре преграждал преподобный Парсли со своим красивым гуттаперчевым лицом Пера Гюнта, отмеченным печатью обреченности. Как у многих мужчин, которые бреются каждое утро, к вечеру у него на щеках проступила заметная щетина.
– Александра, – начал он, намеренно придав голосу как можно более глубокое, низкое звучание, – я так мечтал увидеть вас здесь сегодня вечером.
Он вожделел ее. Ему надоело трахать Сьюки. Нервничая от исполнения своей увертюры, Парсли поднял руку, чтобы поскрести элегантно причесанную голову, и намеченная им жертва, не упустив случая, мысленно рванула дешевый ремешок его шикарной позолоченной «омеги». Он почувствовал, что часы соскальзывают с руки, и успел подхватить дорогой аксессуар, к счастью запутавшийся в шейном платке, не давшем ему упасть. Это позволило Александре выиграть время, и она прошмыгнула мимо преподобного, бросив мимолетный взгляд на смазанное пятно его удивленного лица – жалкого, как она вспоминала впоследствии не без чувства вины: будто, согласившись спать с ним, она могла спасти его. Потом выскользнула наружу, на свежий воздух, благословенный черный воздух.
Ночь была безлунной. Сверчки стрекотали бесконечную монотонную бессмысленную песню. Фары машин, мчащихся по Кокумскассок-уэй, скользили по острому частоколу сбросивших уже почти всю листву кустов, застывших у входа в церковь, в перемежающихся вспышках света те напоминали челюсти диковинных животных или увеличенные до неправдоподобных размеров сплетенные щупальца и ноги насекомых. В воздухе стоял легкий аромат сидра, забродившего под кожицей не снятых вовремя и попадавших с деревьев яблок, гниющих теперь в заброшенных садах, подступавших сзади к церковной усадьбе, на пустующей земле, ждущей своих пользователей. Горбатыми панцирями чернели на гравиевой площадке ожидавшие хозяев автомобили.
Собственный маленький «субару» представлялся Александре тоннелем тыквенного цвета, в дальнем конце которого маячили тишина ее деревенской кухни, приветственная дробь хвоста Коула, дыхание спящих или притворяющихся спящими у себя в комнатах детей, которые выключили телевизор в тот момент, когда свет от фар ее машины скользнул по окнам. Она наведается к ним, к каждому в своей комнате и в своей постели, а потом достанет двадцать новоиспеченных «малышек», хитро составленных так, что никакие две из них не касаются друг друга и не обнаруживают никакой связи между собой, из шведской печки, все еще тикающей, остывая, и словно бы рассказывающей ей обо всем, что происходило в доме, пока ее не было, – потому что время течет везде, не только в том рукаве дельты, в котором дрейфуем мы. Затем, исполнив свой долг по отношению к «малышкам», к своему мочевому пузырю и зубам, она взойдет на простор своего, принадлежащего ей одной постельного королевства, королевства без короля. Александра читала нескончаемую книгу некоей дамы с тремя именами и аэрографической фотографией автора в блестящем жакете на обложке; несколько страничек этих нескончаемых приключений, происходящих среди утесов и замков, каждый вечер помогали ей преодолеть порог бессознательного. Во сне она простиралась вдаль и вширь, вырастала над крышами домов, видела себя в помещениях, смутно проступавших из вороха прошлого, но казавшихся такими же реальными, как ее собственное присутствие в них – существа, до краев наполненного неясной печалью. В
Страница 24
т она достает из маминой шкатулки для рукоделия игольник в форме сердечка или, глядя на снежные вершины гор, ждет звонка от давно покойного друга детства. В снах предзнаменования выделывали курбеты вокруг нее так же безвкусно-витиевато, как в парках с аттракционами рекламные фигуры в костюмах из папье-маше, кривляясь, приманивают простаков. Но мы никогда не предвкушаем снов – а если предвкушаем, то не более чем приключений в загробной жизни, обещанных нам сочинителями небылиц.Гравий хрустнул у Александры за спиной. Темная мужская фигура тронула мягкую плоть ее предплечья; прикосновение было ледяным, а может, ее просто лихорадило. От испуга Александра подпрыгнула. Мужчина сдавленно хихикнул.
– Там, внутри, только что случилась дьявольская штука. Старушенция, у которой минуту назад рассыпалось жемчужное ожерелье, разволновавшись, упала, наступив на ремешок собственных туфель, и все испугались, что она сломала шейку бедра.
– Как печально, – ответила Александра искренне, но отвлеченно, ее дух витал далеко, а сердце колотилось от испуга, вызванного его внезапным прикосновением.
Даррил ван Хорн низко склонился к ней и впечатал слова прямо в самое ухо:
– Не забудьте, голубушка. Надо мыслить крупно. Я зайду в галерею и проверю. Будем поддерживать связь. Пока-пока.
– Ты пошла? – с хмурым удовольствием спросила у Джейн взволнованная Александра. Они говорили по телефону.
– Почему бы нет? – твердо ответила Джейн. – У него действительно оказались ноты ми-минорной сонаты Брамса, и он изумительно играет. Как Либерейс, только без всех этих ужимок. Никогда бы не подумала: когда смотришь на его руки, кажется, что они ничего не умеют делать, а вот поди ж ты.
– Вы были одни? У меня перед глазами так и стоит та реклама. – Она имела в виду рекламу какой-то парфюмерии, на которой молодой скрипач соблазнял свою аккомпаниаторшу в платье с глубоким декольте.
– Не будь вульгарной, Александра. Он не испытывает ко мне никакого сексуального влечения. К тому же в доме было столько рабочих, включая и твоего друга Джо Марино в своей неизменной клетчатой шляпе с пером. А с мыса позади дома непрерывно доносился грохот, оттуда убирают валуны. Судя по всему, там придется произвести немало взрывных работ.
– Как ему удалось все уладить, ведь это заповедная топь?
– Не знаю, дорогая, но у него есть разрешение. Оно приколото к стволу дерева на самом виду.
– Бедные цапли!
– О, Лекса, в их распоряжении весь остальной Род-Айленд, гнездись – не хочу. Для чего нужна природа, если она не может приспосабливаться?
– Она может приспосабливаться, но лишь до определенного предела. А потом начинает страдать.
Шелестящее золото октября заглядывало в ее кухонное окно; крупные резные листья винограда, обвивавшего арку, начинали ржаветь от краев к середине. Левее, в направлении болота, небольшая березовая рощица под порывом ветра испустила пригоршню ярких острых стрелок, которые, кружась и мерцая, планировали на лужайку.
– Как долго ты у него была?
– О-о, – протянула Джейн, собираясь соврать. – Около часа. Может, часа полтора. Он действительно чувствует музыку, и, когда остаешься с ним наедине, манера его поведения перестает быть такой клоунской, какой она могла показаться тогда, после концерта. Он сказал, что в церкви, даже в униатской, у него мурашки бегают по коже. Думаю, несмотря на склонность к блефу, он весьма робок.
– Лапочка. Ты никогда не сдаешься, правда?
Александра представила, как губы Джейн Смарт в негодовании на дюйм отстранились от телефонной трубки. Бакелит – первый из синтетических полимеров, как сказал этот человек. Между тем Джейн продолжала с шипением в голосе:
– Вопрос не в том, сдаюсь я или нет, суть в том, чтобы делать свое дело. Ты делаешь свое дело в одиночестве, тоскливо слоняясь по саду в мужских брюках или стряпая свои маленькие безделушки, но чтобы заниматься музыкой, необходимы партнеры. Другие люди.
– Они не безделушки, и я не слоняюсь по саду.
Джейн продолжала:
– Вы со Сьюки всегда насмехаетесь над тем, что я общаюсь с Реем Неффом, но ведь, пока этот, другой мужчина не появился здесь, единственным человеком в городе, с которым я могла музицировать, был именно Рей.
Александра возразила:
– Это скульптуры, а ты только потому, что они не такие крупные, как у Колдера или Мура, позволяешь себе отзываться о них вульгарно и так же, как этот как-там-его, подразумеваешь, что мне следует делать вещи помасштабнее, чтобы какая-нибудь дорогая нью-йоркская галерея могла содрать с меня пятьдесят процентов, если они действительно будут продаваться, в чем я сильно сомневаюсь. Нынче все зависит от моды и грубого напора.
– Это он тебе сказал? Значит, тебе он тоже сделал предложение?
– Я бы не назвала это предложением – просто типично нью-йоркская предприимчивость и привычка совать свой нос куда не просят. Им там всем приходится быть заодно, во всем.
– Мы его очень заинтриговали: почему это все мы живем здесь, без толку растрачивая свои прелести и способности в здешн
Страница 25
м бесплодном воздухе? – заключила Джейн Смарт.– Скажи ему, что Наррагансетский залив всегда привлекал чудаков, к тому же – он сам-то что здесь делает?
– Это и мне интересно. – Как свойственно жителям берегов Массачусетского залива, Джейн проглатывала «р». – Создается впечатление, что там, где он раньше жил, стало слишком горячо для него. И ему очень нравится простор большого дома. У него три рояля, честное слово, хотя один из них не рояль, а пианино, он его держит в библиотеке; и еще у него столько чудесных старинных книг в кожаных переплетах с латинскими названиями.
– Он тебя чем-нибудь поил?
– Только чаем. Его слуга, с которым он говорит по-испански, принес чай на огромном подносе, уставленном множеством ликеров в забавных старинных бутылках. Они выглядели так, словно их достали из погреба, оплетенного паутиной, – ну, ты знаешь.
– Кажется, ты сказала, что вы пили только чай?
– Ну, Лекса, брось, может, я и глотнула каплю ежевичного ликера или чего-то, что Фидель горячо рекомендовал, – кажется, это называется мескаль[24 - Мескаль – мексиканская водка из сока алоэ.]. Знала бы, что придется давать такой подробный отчет, записала бы название. Ты хуже ЦРУ.
– Извини, Джейн. Наверное, я просто ревную. И потом – мой цикл. Он длится уже пять дней, с того концерта, и у меня болит левый яичник. Как ты думаешь, может, это климакс?
– В тридцать восемь-то лет? Солнышко, ты что?!
– Тогда это, должно быть, рак.
– Это не может быть рак.
– Почему не может?
– Потому что ты – это ты. В тебе слишком много магии, чтобы болеть раком.
– Бывают дни, когда я не чувствую в себе никакой магии. К тому же у других она тоже есть.
Александра имела в виду Джину, жену Джо. Джина должна ее ненавидеть. По-итальянски это называется strega. Джо рассказывал ей, что на Сицилии все наводят друг на друга порчу.
– Иногда у меня бывает ощущение, будто все мои внутренности завязаны узлами.
– Сходи к доку Питу, если тебя это всерьез беспокоит, – предложила Джейн не без сочувствия.
Доктор Генри Питерсон – пухлый розовый мужчина их лет, с распахнутыми настежь обиженными водянистыми глазами. Когда он пальпирует, его сильные руки бывают так восхитительно нежны. Жена бросила его много лет назад. Он так и не понял почему – и больше не женился.
– Я странно чувствую себя у него на приеме, – призналась Александра. – То, как он накрывает тебя простыней, и все, что он делает под ней…
– Бедный, а что же ему еще делать?
– Оставить свое лукавство. У меня есть тело. Он это знает. Я это знаю. К чему все эти уловки с простыней?
– Их преследуют в судебном порядке, – напомнила Джейн, – если во время приема в кабинете нет медсестры. – Ее голос двоился, как телевизионный сигнал, когда мимо дома проезжает тяжелый грузовик. Джейн позвонила не затем, чтобы обсуждать эти проблемы. Совсем другое было у нее на уме.
– Что еще ты узнала у ван Хорна? – спросила Александра.
– Ну-у… Пообещай, что никому не скажешь.
– Даже Сьюки?
– Особенно Сьюки. Потому что это касается ее. Даррил и впрямь очень наблюдательный, он все замечает. На том приеме после концерта он оставался дольше нас. Я пошла в «Бронзовую бочку» с участниками квартета выпить пива…
– И Грета с вами?
– О господи, конечно. Она рассказала нам все о Гитлере, о том, как ее родители не выносили его, потому что он плохо говорил по-немецки. Даже во время выступлений по радио не всегда заканчивал фразу глаголом, как положено.
– Как это было для них ужасно!..
– А ты, как я понимаю, растворилась в ночи, сыграв злую шутку с жемчугами бедной Фрэнни Лавкрафт.
– С какими жемчугами?
– Не притворяйся, Лекса. Ты была в гадком настроении. Уж я-то тебя знаю. А потом еще туфли… Фрэнни с тех пор не встает с постели, хотя, слава богу, ничего не повредила. Все боялись, что она сломала шейку бедра. Ты знаешь, что у женщин к старости кости ссыхаются почти наполовину? Вот почему у них все и ломается. Ей повезло: она схлопотала всего лишь ушиб.
– Не знала. Глядя на нее, я всегда задаюсь вопросом: неужели и я буду такой же приторной, занудливой и настырной в ее возрасте, если я до него доживу, конечно, что сомнительно. Я чувствовала себя так, будто смотрю в зеркало на собственное ужасное будущее, и это взбесило меня, мне очень жаль.
– Ладно, лапушка, меня это ни с какого боку не касается. Так вот, как я уже сказала, Даррил помогал убирать после приема и заметил, что, пока Бренда Парсли в кухне собирала пластиковые стаканчики и бумажные тарелки в мешки для мусора, Эд и Сьюки исчезли вместе! Оставив несчастную Бренду делать хорошую мину при плохой игре. Представь, какое унижение!
– Им действительно следовало бы быть поскромнее.
Джейн выдержала паузу, ожидая, что Александра скажет что-нибудь еще. Наступал момент, за который та должна была бы зацепиться, но ее мысли витали далеко, занятые картиной рака, расползающегося внутри ее, как вихрящиеся туманности галактик, незаметно захватывающие черноту космоса и роняющие там и сям смертельную звезду…
–
Страница 26
Он такой зануда, – запинаясь, подала наконец реплику Джейн, имея в виду Эда. – И почему Сьюки всегда пытается нас убедить, что она с ним покончила?Теперь Александра мысленно преследовала любовников в ночи: стройное тело Сьюки, как прутик без коры, но с гибкими и мускулистыми выпуклостями. Сьюки была из тех женщин, которые рискованно балансируют на грани мальчишества, в них есть нечто мужское, но их женственность просачивается каким-то образом сквозь не ведающую вины энергию, коей обладают мужчины, чьи жизни сфокусированы, словно стрелы, летящие во врага через слабый ураган, мужчины, с жестокого своего мальчишеского детства на всю жизнь наученные умирать. Почему этому не учат женщин? Ведь неправда, будто, если у вас есть дочери, вы никогда не умрете…
– Может, обратиться в клинику, где меня никто не знает? – произнесла Александра, отвергая идею посещения дока Пита.
– Послушай, ты бы придумала что-нибудь получше, чем постоянно терзать себя, – ответила Джейн. – Должна тебе сказать, это довольно скучно.
– Я думаю, отчасти влечение Сьюки к Эду объясняется, – предположила Александра, стараясь вновь настроиться на волну Джейн, – ее профессиональной потребностью ощущать себя в гуще местных событий. В любом случае гораздо интереснее не то, что она все еще встречается с ним, а то, что ван Хорн успел заметить это, едва прибыв в город. Это лестно: судя по всему, нам предлагают задуматься.
– Дорогая Александра, в некотором смысле ты все еще ужасно несвободна. Знаешь, мужчина тоже может быть просто человеком.
– Да, в теории, но я ни разу не видела мужчину, который так бы о себе думал. Все они на поверку оказываются самцами, даже педерасты.
– Помнишь, мы интересовались, свободен ли он? Теперь он интересуется всеми нами!
– Мне послышалось, будто тобой он не интересуется, а просто вы оба интересуетесь Брамсом.
– Интересовались. И интересуемся. Слушай, Александра, расслабься. Ты говоришь так, будто тебя терзают спазмы.
– Да, я в полном раздрызге, но завтра мне будет лучше. Ты помнишь, что в этот раз моя очередь?
– О господи, чуть не забыла! Вот почему я еще звоню. В этот раз я не смогу прийти.
– Не сможешь прийти на наш четверг? Что случилось?
– Ты будешь смеяться, но это опять связано с Даррилом. У него есть прелестные пьески Веберна, которые он хочет на мне проверить, но, когда я предложила пятницу, он сказал, что в пятницу к нему приедут какие-то разъездные японские инвесторы, которые хотят ознакомиться с его антикоррозийным покрытием для автомобилей. Я вот что подумала, – может, нам погулять сегодня днем по Орчад-роуд, если не возражаешь? Один из моих сыновей просил меня посмотреть, как он будет после уроков играть в футбол, но я могу лишь на минутку показаться на стадионе…
– Нет уж, спасибо, дорогая, – ответила Александра. – У меня сегодня гость.
– О-о!.. – В голосе Джейн зазвенел темный лед с вмерзшим в него пеплом, какой бывает зимой на подъездных аллеях.
– Впрочем, возможно, – попыталась смягчить отказ Александра. – Он или она не точно обещали прийти.
– Дорогая, я все прекрасно понимаю. Не нужно больше ничего говорить.
То, что пришлось самой сделать шаг навстречу, хотя именно она была обиженной стороной, разозлило Александру, и она сказала подруге:
– Я считала, что наши четверги – это святое.
– Да, как правило… – начала Джейн.
– Но полагаю, в мире, где ничего святого не осталось, нет причин соблюдать и наши четверги.
Почему она так обиделась? Ритм ее рутинной недели зависел от нерушимого треугольника, конуса силы. Но она не должна выдавать себя, позволив голосу жалко дрожать.
Джейн попробовала извиниться:
– Только в этот единственный раз…
– Все прекрасно, милая. Тем больше мне достанется яиц под пряным соусом.
Джейн Смарт обожала яйца под пряным соусом с большим количеством перца и щепоткой сухой горчицы, посыпанные нарезанными перышками молодого чеснока или украшенные анчоусами, торчащими из каждой фаршированной белой половинки, как змеиный язычок.
– Ты действительно собираешься взвалить на себя такую обузу и приготовить яйца под соусом? – жалобно спросила Джейн.
– Разумеется, нет, дорогая, – ответила Александра. – Будут заурядные непропеченные соленые крекеры и черствый сыр. Прости, мне пора.
Через час, когда Александра рассеянно глядела поверх голого волосатого плеча, доверчиво пахнущего прокисшим молоком, как детское темечко, Джо Марино скорее с ленцой, чем с воодушевлением трудился над ней, заставляя кровать стонать и прогибаться под непривычной для нее двойной тяжестью. Неожиданно Александру посетило видение. Перед мысленным взором возник дом Леноксов, глянцевый, как страничка иллюстрированного календаря, с единственной спиралькой дыма, которую она видела тогда. Этот трогательный парок соединялся у нее в голове с пикантным описанием подругой ван Хорна как человека робкого и оттого паясничающего. А точнее, по наблюдениям самой Александры, – сбитого с толку: ей он напоминал человека, глядящего сквозь прорези в маске или слу
Страница 27
ающего, заткнув уши ватой.– Ради бога, сосредоточься, – проворчал Джо прямо ей в ухо и, не встретив отклика, возбудился от собственного гнева.
Его голое волосатое тело – твердые от физической работы мышцы в силу благоприятных обстоятельств стали чуть рыхлее – вздыбилось раз, другой, третий и наконец мелко задрожало, как содрогается старенькая машина при включении зажигания. Александра попыталась подстроиться, но контакта не получилось.
– Прости! – прорычал он. – Я думал, все идет хорошо, но ты вдруг отключилась. – Он великодушно прощал партнершу за вялость, толкуя ее как последствие завершающегося цикла, хотя никакой крови видно не было.
– Это моя вина, – ответила Александра. – Целиком и полностью. Ты был великолепен. А я – отвратительна. – Он чудесно играет, вспомнила она слова Джейн.
Освободившись от наваждения, Александра вдруг отчетливо и словно в первый раз увидела свой потолок: впечатляющее пространство мертвого квадрата с маленькими трещинками на поверхности, едва отличимыми от крапинок в стекловидном веществе ее собственного глаза, за тем исключением, что, когда она переводила взгляд, эти последние начинали плавать, наподобие микроскопических организмов в пруду или… раковых клеток в лимфе. Круглое плечо и боковая поверхность шеи Джо были бледны и бесстрастны, как потолок, и так же ровно испещрены оптическими соринками, которые не всегда составляли неотъемлемую часть ее вселенной, но, уж если появлялись, их невозможно было не видеть и очень трудно прогнать. Признак старости. Как на снежный ком, катящийся с горы, на нас с годами тоже налипают песчинки.
Лоб, грудь и живот Александры плавали в поту Джо, и через эту плазму мозг постепенно возвращался к наслаждению его телом с губчатым строением, тяжестью, умиротворяющим мужским запахом и почти сверхъестественной в мире малых чудес нездешностью. Обычно он был не здесь. Обычно он был с Джиной. Джо скатился с Александры с обиженным вздохом. Она оскорбила его средиземноморскую гордость. Макушка у Джо была лысой и дубленой, полированный скальп казался покрытым рябью и напоминал листки книги, забытой в саду под росой. Именно из гордости первое, что он сделал, – это снова надел свою шляпу, заявив, что без нее у него мерзнет голова. Когда шляпа оказалась на месте, его профиль стал моложавым, с крючковатым носом, как на портретах Беллини, и глубокими впадинами под глазами, какие бывают у страдающих заболеваниями печени. Изначально Александру привлек его лениво-порочный вид, в нем был намек не то на барона, не то на дожа, не то на мафиозо, который играет жизнью и смертью, презрительно сплевывая сквозь зубы. Но на поверку Джо, которого Александра соблазнила, когда он пришел чинить бачок, журчавший по ночам, оказался в этом смысле беззубым – буржуа, честный до последней медной шайбочки, без памяти обожающий своих пятерых детей, старшему из которых одиннадцать.
Родня Джины заполонила все побережье от Нью-Бедфорда до Бриджпорта. Джо был чудовищно любвеобилен и предан, его сердце принадлежало такому количеству спортивных команд – «Кельтам», «Мишкам», «Китобойцам», «Красным носкам», «Потакетским носкам», «Чечеточникам», «Торговцам чаем», «Лобстерам», «Минитменам»… – существования которого Александра даже не могла представить. С той же преданностью он приходил трудиться над Александрой раз в неделю. Адюльтер был для Джо ступенью к проклятию, и он свято чтил и эту свою обязанность, сатанинскую. Помимо того, это было своего рода противозачаточной мерой; его плодовитость начинала пугать его самого, и чем больше семени отбирала у него Александра, тем меньше оставалось осваивать Джине. Их связь длилась уже третий год, Александра давно бы уже прекратила ее, если бы ей так не нравился вкус Джо – солоновато-сладкий, как нуга, – и то, как мерцает воздух в дюйме над складками его скальпа. В окрасе его ауры не было ничего злобного или дурного; его мысли, как и руки слесаря, были вечно заняты поиском, что бы еще починить. Судьба передала Александру из рук изготовителя хромированной сантехники в руки ее установщика.
Чтобы увидеть дом Леноксов таким, каким он предстал ей в видении, – с четкой, до последнего кирпичика различимой кладкой стены, гранитными наружными подоконниками и внешними углами, с окнами, напоминающими бойницы, – и в такой фронтальной проекции, нужно парить в воздухе над болотом. Видение стремительно уменьшалось, как будто отступало вглубь, маня ее за собой. Оно уже стало размером с почтовую марку и, не закрой Александра глаза, могло вовсе исчезнуть, как горошина, смытая в водослив. Так вот, когда она закрыла глаза, Джо кончил. Александра была так ошеломлена и пребывала в такой раскоряченной позе, что отчасти как бы и сама испытала оргазм.
– Может, мне расквитаться с Джиной и начать все заново с тобой? – размышлял между тем Джо.
– Не говори глупостей. Ничего подобного ты не хочешь, – ответила Александра. Где-то там, над крышей, высоко в небе, над этим ветреным днем, гуси невидимым клином пробивали себе путь на юг и перекликались, ободряя
Страница 28
друг друга: «Я здесь. Ты здесь?» – Ты добрый католик, имеющий пять бамбини и процветающий бизнес.– Да, но тогда что я здесь делаю?
– Ты околдован. Это очень просто. Я вырвала твой снимок, сделанный во время заседания комиссии по планированию, из «Иствикского слова» и измазала его своей менструальной жидкостью.
– Господи Исусе, иногда ты бываешь омерзительна!
– Но тебе это нравится, не так ли? Джина никогда не бывает омерзительна. Джина сладкая, как Богоматерь. Если бы ты был хоть немного джентльменом, то помог бы мне кончить языком. Крови уже почти нет – так, охвостье.
Джо состроил гримасу.
– Как насчет того, чтобы перенести приглашение на другой день? – ответил он, оглядываясь в поисках одежды, чтобы дополнить ею шляпу.
Его тело, хоть и начинало пухнуть, сохраняло аккуратность форм; в школе он был спортсменом, ловким, не пропускавшим ни одного мяча, но коротышкой, что помешало ему выбиться в звезды. Ягодицы у него и сейчас оставались упругими, даже притом что брюшко уже отвисло. На спине красовалась огромная бабочка из тонких черных волос, верхние края ее крыльев покоились вдоль линии плеч, нижние утопали в ямочках по обеим сторонам позвоночника в самом низу.
– Мне нужно отметиться на работе, у этого ван Хорна, – пояснил Джо, пряча розовое яичко, выбившееся из-под трусов на резинке.
Это были трусы-бикини пурпурного цвета по новой гермафродитной моде. Среди любовей Джо числилась и любовь следить за новыми веяниями в мужской одежде. Он был одним из первых мужчин в округе, который стал носить джинсовый пиджак и почувствовал, что возвращается мода на шляпы.
– Кстати, как там идут дела? – лениво поинтересовалась Александра, не хотевшая, чтобы он уходил. С потолка на нее уже опускалась безысходность одиночества.
– Мы все еще ждем это посеребренное водопроводное оборудование, которое пришлось заказывать в Западной Германии, и я вынужден был посылать к Крэнстону за медными листами нужного размера под ванну, чтобы обойтись без швов. Когда это кончится, я вздохну с облегчением. В этом доме есть что-то неправильное. Парень обычно встает после полудня, а иногда приходишь – а там вообще никого нет, только эта патлатая кошка трется вокруг. Ненавижу кошек.
– Они омерзительны, – согласилась Александра. – Как я.
– Нет, Ал, что ты! Ты – mia vacca. Mia vacca bianca[25 - Моя корова. Моя белая корова (ит.).]. Ты – моя огромная вазочка мороженого. Что еще может сказать бедный парень вроде меня? Ведь каждый раз, когда я пытаюсь говорить серьезно, ты меня осаживаешь.
– Серьезность пугает меня, – объяснила Александра. – Во всяком случае, что касается тебя, то я знаю, что ты всего лишь дразнишь меня.
На самом деле это она дразнила его, заставляя шнурки на туфлях – темно-красных туфлях из кордовской кожи, какие носят мужчины с университетским образованием, – развязываться, как только он затягивал узелок. Наконец сдавшись, Джо вынужден был уходить, шаркая ногами и волоча за собой шнурки, отчего страдали его тщеславие и привычка к аккуратности. Каждый следующий его шаг по лестнице был все меньше и меньше, а хлопок двери напомнил маленький твердый комок, всего лишь чурочку из раскрашенной древесины, самую последнюю и маленькую из куколок в русской матрешке.
За окнами, выходившими во двор, скворец пиликал свою песню, дикая ежевика сотнями притягивала их на болото. Оказавшись одна посреди ставшей вдруг снова необозримой постели, покинутая и неудовлетворенная, Александра попыталась еще раз, уставившись в пустой потолок, поймать то странно отчетливое архитектурное видение усадьбы Леноксов, но перед глазами маячил лишь призрачный след образа, мертвенно-бледный прямоугольник, похожий на конверт, так долго провалявшийся на чердаке, что марка отвалилась.
Изобретатель, музыкант, поклонник искусств обновляет старинную усадьбу Леноксов
Обходительный, с глубоким голосом, на свой бродяжий, медвежий манер красивый, мистер Даррил ван Хорн, недавно прибывший к нам с Манхэттена и являющийся теперь добропорядочным иствикским налогоплательщиком, приветствовал появление вашего корреспондента на своем острове.
Да, на острове, ибо знаменитая усадьба Леноксов, которую купил новоприбывший, основана среди болот и во время высоких приливов бывает окружена сплошной водной гладью!
Дом, сооруженный из кирпича в 1895 году в английском стиле, с симметричным фасадом и массивными дымоходами на обоих концах, новый владелец собирается перестроить в соответствии со своими разнообразными потребностями. Здесь будут лаборатория для его невероятных химических экспериментов и опытов с солнечной энергией, концертный зал с тремя как минимум роялями (на которых он прекрасно, поверьте мне, играет) и большая галерея, на стенах которой уже висят потрясающие работы таких современных мастеров, как Роберт Раушенберг, Клаус Олденберг, Боб Индиана и Джеймс ван Дайн.
Продолжается сооружение тщательно продуманного солярия-оранжереи, японской бани с ванной из полированного тикового дерева и шикарной наружной сетью медных вод
Страница 29
проводных труб, а также теннисного корта. Находящийся в частном владении остров постоянно оглашается стуком молотков и визжанием пил, так что прекрасные снежные цапли, традиционно гнездившиеся на защищенной домом заветренной стороне усадьбы, вынуждены искать себе временное убежище в других местах.За прогресс приходится платить!
Будучи радушным хозяином, ван Хорн тем не менее весьма сдержанно рассказывает о своих многочисленных начинаниях и надеется в будущем наслаждаться уединением и возможностью в одиночестве предаваться размышлениям в своей новой резиденции.
– Род-Айленд привлек меня, – ответил он на вопрос вашего корреспондента, – тем простором и красотой, какие редко встретишь на восточном побережье в наши тревожные и перенаселенные времена. Я уже чувствую себя здесь как дома. Это чертовски много значит! – добавил он неофициально, стоя с вашим корреспондентом на развалинах бывшего леноксовского дока и глядя на открывающийся оттуда вид: болота, горную гряду, канал, поросшую кустарником низину; со второго этажа дома на горизонте просматривается даже океан.
В осенний день нашего визита в доме с полами, выстланными кленовым паркетом, и высокими потолками с лепными венчиками для люстровых гнезд, а также зубчатыми орнаментами по периметру было весьма прохладно. Бо?льшая часть оборудования нового «мастера» и мебель все еще не распакованы и находятся в плотных ящиках, но вашего корреспондента заверили, что предстоящая зима ничуть не пугает изобретательного хозяина.
Ван Хорн планирует вмонтировать множество солнечных панелей в черепицу огромной крыши, более того, он близок к завершению хранящегося пока в глубокой тайне открытия, которое в ближайшем будущем вообще сделает ненужным употребление допотопных видов топлива. Время, вперед!
Земли, ныне заросшие сумахом, китайским ясенем, виргинской черемухой и прочими сорными деревьями, новый хозяин мыслит в будущем как полутропический рай, наполненный экзотическими растениями, которые на зиму будут переносить в солярий-оранжерею. Статуи, некогда на версальский манер украшавшие мол, увы, так пострадали от долгих лет непогоды, что у многих отвалились носы и руки. Честолюбивый владелец намерен реставрировать их и установить в доме, а величественный мол (который местные старожилы еще помнят во всем его былом великолепии) украсить стеклопластиковыми копиями знаменитых кариатид греческого Пантеона в Афинах.
– Дорога, идущая по гребню плотины, – сказал ван Хорн с широким жестом, весьма характерным для него, – будет усовершенствована и в самых низких местах снабжена якорными алюминиевыми понтонами.
– Много радости доставит причал, – по собственной воле, вероятно с юмором, сообщил он. – В катере на воздушной подушке можно будет гонять в Ньюпорт и даже в Провиденс.
Свою обширную резиденцию ван Хорн делит всего лишь с одним помощником-дворецким, мистером Фиделем Малагуэром, и своей обожаемой пушистой ангорской кошкой, в шутку нареченной экстравагантным именем Тамбкин[26 - От англ. thumb – большой палец.], потому что у животного на каждой лапке есть лишний большой пальчик.
Ваш корреспондент приветствовал пришельца, человека со впечатляющим воображением и запальчивостью, в этом сказочном уголке Южного округа, уверенный, что выражает мнение многих земляков.
Итак, усадьба Леноксов снова приковывает к себе взгляды!
Сьюзан Ружмонт
– Так ты ездила туда! – ревниво упрекнула Сьюки по телефону Александра, прочтя ее статью в «Слове».
– Голубушка, это было мое задание.
– А кому принадлежала идея такого задания?
– Мне, – призналась Сьюки. – Клайд не был уверен, что это важная новость. К тому же бывали случаи, когда после статьи о том, какой чудесный дом и прочее имеет некое лицо, его через неделю грабили, а газете предъявляли иск.
Клайд Гейбриел, усталый жилистый мужчина, женатый на противной филантропке, редактировал «Слово». Будто оправдываясь, Сьюки спросила:
– Как тебе статья?
– Ну что ж, душечка, живо, но немного затянуто, и, нужно честно сказать – только без обид, – ты должна следить за причастиями. Ими пестрит весь текст.
– Если в статье меньше пяти абзацев, ее дают без подписи. К тому же он напоил меня. Сначала чай с ромом, потом ром без чая. Этот вкрадчивый латино все таскал и таскал его на своем необъятном серебряном подносе. В жизни не видела такого огромного подноса; он был размером со столешницу, весь то ли гравированный, то ли чеканный, не знаю.
– А он? Как вел себя он? Даррил ван Хорн.
– Должна заметить, он тараторил без умолку. Половину проведенного там времени я купалась в его слюне. Не знаю, насколько серьезно можно относиться к некоторым его высказываниям – о понтонах, например. Он сказал, что подушки, если это так называется, выкрасят в зеленый цвет и они будут сливаться с болотной травой. Теннисный корт тоже будет зеленым, даже ограждение. Его уже почти закончили, и ван Хорн хочет, чтобы мы приехали к нему поиграть, пока погода совсем не испортилась.
– Мы – это кто?
– Все мы: ты, я и Джейн. М
Страница 30
его, похоже, очень интересуем, и я ему кое-что рассказала, ну, только то, что известно всем, – о наших разводах, о том, как мы нашли друг друга, и так далее. И о том, какое это для нас утешение, особенно ты. Джейн я в последнее время не считаю таким уж утешением, сдается мне, она у нас за спиной ищет мужа. При этом я вовсе не ужасного Неффа имею в виду. Господи, тебе дети не мешают? Я со своими постоянно веду тяжелые бои. Они жалуются, что меня никогда не бывает дома, а я пытаюсь объяснить гаденышам, что зарабатываю на жизнь.Но Александру не так-то просто было отвлечь от свидания, которое она хотела представить, – свидания Сьюки с ван Хорном.
– Ты рассказала ему о нас что-нибудь грязное?
– А разве есть что-то грязное? Честно сказать, Лекса, я просто не слушаю этих сплетен. Держу голову высоко и думаю: «Да пошли вы все!..» – вот так и хожу каждый день по Док-стрит. Нет, разумеется, ничего такого я ему не рассказывала. Я, как всегда, была предельно скрытна. Да он, судя по всему, не слишком и любопытен. Мне кажется, что по-настоящему нравишься ему ты.
– Зато он мне не нравится. Ненавижу такие темные лица. И терпеть не могу нью-йоркской наглости. К тому же у него мимика не совпадает то ли с движением губ, то ли с голосом, то ли еще с чем-то.
– А мне это показалось весьма привлекательным, – заметила Сьюки. – Его неуклюжесть.
– И что же такого неуклюжего он сделал – пролил ром тебе на колени?
– А потом слизал его языком? Нет. Мне просто симпатична его манера перескакивать с одной темы на другую. То он показывает мне свои безумные картины – там на стенах висит, должно быть, целое состояние, – то лабораторию, то на рояле поиграет, – кажется, это был «Каприз в тонах индиго», в шутку переделанный в ритме вальса. Потом начал бегать вокруг дома, пока один из работавших на заднем дворе бульдозеров чуть не столкнул его в яму, и все спрашивал, не хочу ли я взглянуть на окрестности с купола.
– Надеюсь, ты не полезла с ним на купол! Во всяком случае, при первом свидании.
– Детка, ты все время заставляешь меня повторять: это было не свидание, а задание. Нет, я сочла это лишним, к тому же была пьяна, но приличия соблюдала.
Она помолчала. Прошлой ночью дул сильный ветер, и Александра видела сквозь кухонное окно: с берез и увитой виноградом арки слетело столько листьев, что свет снаружи стал совсем другим – голый, серый, недолговечный зимний свет, в котором четко проступает рельеф местности и видно, как близко расположены соседние дома.
– Мне показалось, – продолжала Сьюки, – не уверена, конечно, но мне показалось, что он слишком жаждет публичности. Я хочу сказать, что наше «Слово» ведь всего лишь крохотная местная газетенка, а было такое впечатление, что… – Она запнулась.
– Продолжай, – подстегнула ее Александра, прислонившись лбом к холодному оконному стеклу, будто хотела дать своим иссушенным жаждой мозгам испить свежего просторного света.
– Просто мне интересно, действительно эти его опыты идут так успешно, или он только хорохорится? Если он и впрямь изобрел все эти чудеса, то не появится ли здесь вскоре завод?
– Хорошие вопросы. А какого рода вопросы задавал он про нас? Точнее, что? ты сочла возможным ему поведать?
– Не понимаю, почему ты говоришь об этом так раздраженно.
– Я тоже. То есть я говорю ничуть не раздраженно.
– Я ведь вовсе не обязана все это тебе рассказывать.
– Ты права. Я веду себя отвратительно. Пожалуйста, продолжай. – Александра не хотела, чтобы из-за ее дурного настроения окно во внешний мир, которое открывали ей сплетни Сьюки, захлопнулось.
– Ну-у, – с мукой в голосе произнесла Сьюки, – о том, как нам уютно вместе. О том, что, как выяснилось, мы предпочитаем женское общество мужскому, ну и так далее.
– Это его обидело?
– Нет, он сказал, что тоже предпочитает женщин мужчинам. Они гораздо более совершенные механизмы.
– Он так и сказал – «механизмы»?
– Что-то в этом роде. Послушай, мой ангел, я должна бежать, честно. Мне нужно интервьюировать руководителей комитета по проведению праздника урожая.
– В какой церкви?
В наступившей паузе Александра закрыла глаза и увидела радужный зигзаг: будто бриллиант на чьей-то невидимой руке прорезал темноту электрической параллелью мечущимся мыслям Сьюки.
– Представь, в униатской. Все остальные отказались туда идти, они считают ее слишком языческой.
– Можно спросить: какие чувства ты испытываешь в последнее время к Эду Парсли?
– О, такие же, как и всегда. Нежные, но отстраненные. Бренда такая невыносимая надоеда!
– И чем же она так невыносимо ему надоедает, он не сказал?
Между ведьмами было принято проявлять сдержанность в вопросах, касающихся конкретики сексуальных отношений, но Сьюки, чтобы смягчить наметившееся раздражение, нарушила запрет и пустилась в признания:
– Лекса, она ничего для него не делает. А он, прежде чем поступить в духовное училище, немало покуролесил, поэтому точно знает, чего лишен. Он мечтает сбежать и присоединиться к движению.
– Для этого он слишком
Страница 31
тар. Ему же за тридцать. Движение его не примет.– Это он понимает. И презирает себя. Ну не могу я все время его отвергать, он такой жалкий! – запальчиво выкрикнула Сьюки.
Врачевание было заложено в их природе, и если общество обвиняло их в том, что они становились между мужьями и женами, разрывали, казалось бы, нерушимые союзы, накидывали петельки, которые в недрах внешне благополучных семейных жизней, под сенью укромных крыш, за плотно задернутыми шторами затягивались в извращенные узелки импотенции и эмоциональной холодности, если оно не просто обвиняло их, но своим негодующим злоязычием жгло заживо, то это была цена, которую приходилось платить. Желание полечить, приложить целебную примочку нехотя сдающейся плоти к ране мужского вожделения, дать заточенному духу мужчины испытать восторг при виде освободившейся от одежд нагой ведьмы, скользящей по безвкусно обставленной комнате мотеля, было основополагающим и инстинктивным, чисто женским свойством. И Александра отпустила Сьюки без дальнейших упреков в том, что молодая подруга продолжает обихаживать Эда Парсли.
В тишине дома, которому еще более двух часов предстояло отсутствие детей, Александра боролась с депрессией, дрейфуя под его гнетом, как снулая, уродливо деформированная рыба в придонных морских глубинах. Она задыхалась от собственной бесполезности и тягостной бесполезности этого деревенского дома середины девятнадцатого века с пропахшими плесенью и линолеумом комнатушками. Чтобы взбодриться, Александра решила поесть. Все, даже гигантские морские слизняки, питаются; смысл их существования и состоит в том, чтобы питаться. Зубы, копыта, крылья развились у живых тварей в результате маленьких кровавых битв, длящихся уже миллионы лет. Александра сделала себе сандвич из ломтика индюшачьей грудки и салата на кусочке диетического зернового хлеба, все это она приволокла нынче утром из «Сьюперетта» вместе с «Кометом», «Кэлгонитом» и сегодняшним номером «Слова». Ее поразило, сколько утомительных действий требует приготовление ленча: достать мясо из холодильника, отлепить скотч, которым склеена бумажная обертка, найти майонез на полке, где он прячется среди банок конфитюра и бутылок салатного масла, ногтями отодрать от кочана латука мнущуюся и слипающуюся упаковочную пленку, разложить все это на кухонной стойке, поставить тарелку, достать из ящика нож, чтобы намазать майонез, найти вилку, чтобы выудить длинный и тощий пикуль из широкой банки, где в зеленом рассоле плавают семена, потом сварить кофе, чтобы запить вкус индейки и пикуля. Каждый раз, когда Александра клала на место в ящик маленький пластмассовый измеритель уровня кофейной гущи в кофеварке, в его недоступных для очистки трещинках застревало еще несколько крупинок молотого кофе: если она будет жить вечно, этих крупинок накопится с гору размером в одну из темно-коричневых альпийских вершин.
Все вокруг в этом доме неотвратимо покрывалось грязью: она скапливалась под кроватями, за рядами книг на полках, между секциями батарей. Александра убрала ингредиенты своего обеда и инструменты, потребовавшиеся для утоления голода. Кое-как навела порядок в доме. Ну почему нужно обязательно спать на кроватях, которые приходится застилать, есть с тарелок, которые приходится мыть? Разве инкским женщинами жилось хуже? Прав ван Хорн – она действительно чувствовала себя механизмом, роботом, жестоко обреченным осознавать каждое свое рутинное движение.
Там, в высокогорном городке на западе, с его главной улицей, пыльной и широкой, как футбольное поле, с аптекой, скобяной лавкой, «Вулвортом»[27 - «Вулворт» – сеть магазинов, получившая название по фамилии основателя, Фрэнка Уинфилда Вулворта (1852–1919).] и парикмахерской, разбросанными по ней, как ядовитые креозотные кусты, отравляющие землю вокруг себя, там Александра была нежно лелеемой дочерью. В ней сосредоточивалась вся жизнь семьи. Чудо удивительной грации в обрамлении скучных братьев – впряженных в дребезжащую повозку возмужания мальчишек, которым предстоит жизнь в команде, то в одной, то в другой. Отец, коммивояжер, торговавший джинсами «Ливайс», возвращаясь после поездок, смотрел на взрослеющую Александру, как на растение, вытягивающееся короткими рывками, и при каждой следующей встрече замечал новые лепестки и побеги.
Год за годом маленькая Сэнди высасывала из увядающей матери здоровье и силу, как некогда – молоко из ее груди. Занимаясь верховой ездой, она порвала девственную плеву. Научилась ездить на длинных, имеющих форму седла мотоциклетных пассажирских сиденьях, так плотно прижимаясь к спинке мальчишеской куртки, что на щеке оставались отпечатки заклепок. Потом мама умерла, и отец отправил Александру в колледж на восток; ее куратор в старших классах настоял на некоем заведении с безопасно звучащим названием «Коннектикутский женский колледж». Там, в Новом Лондоне, она в качестве капитана команды по травяному хоккею и студентки, специализирующейся в области изящных искусств, в течение четырех по-восточному открыточно-красивых учебных сезонов с
Страница 32
енила множество красочных костюмов и на предпоследнем курсе, в июне, оказалась вся в белом, а вслед за этим в ее гардеробе вяло вытянулись в ряд разнообразные униформы жены. С Озом Александра познакомилась на кем-то организованной парусной прогулке на Лонг-Айленде; твердой рукой поднося к губам один за другим хрупкие пластиковые стаканчики, он не выказывал симптомов ни опьянения, ни страха, в то время как она испытывала и то и другое, и это произвело на нее впечатление. Оззи тоже восхитили ее полная фигура и мужская походка, свойственная женщинам с запада. Ветер изменил направление, парус затрепетал, захлопал, яхта начала рыскать, на его опаленном солнцем и выпитым джином красном лице сверкнула ободряющая улыбка; он улыбался одним уголком рта, застенчиво, как ее отец. И Александра упала прямо ему в руки, смутно ожидая от подобного падения последующего жизненного взлета: сила к силе. Она взвалила на свои плечи тяготы материнства, членства в клубе садоводов, совместного пользования автомобилями и званых коктейлей. По утрам пила кофе с приходящей домработницей, а вечерами – коньяк с мужем, принимая пьяную похоть за семейное благополучие. Мир вокруг Александры разрастался – дети один за другим выскакивали у нее между ногами, пришлось надстраивать дом, Оз продвигался по службе в ногу с инфляцией, – и она продолжала как-то питать этот мир, но он больше не питал ее. У Александры участились депрессии. Врач прописал тофранил и визиты к психотерапевту и/или духовнику. Они с Озом жили тогда в Норидже, из их дома был слышен звон церковных колоколов, и в рано сгущающихся зимних сумерках, до того как школа возвращала ей детей, Александра, которую малейшее движение обессиливало и валило с ног, ложилась на кровать, ощущая себя бесформенной и дурно пахнущей массой – не то старой калошей, не то шкуркой белки, сбитой за несколько дней до того на шоссе.В детстве, в их невинном горном городке, она, бывало, нежилась в постели, взволнованная ощущением собственного тела – пришельца, явившегося ниоткуда, чтобы заключить в себя ее дух. Она разглядывала себя в зеркале, видела ямочку на подбородке и странную расщелинку на кончике носа, отступала назад, чтобы оценить широкие покатые плечи, тыковки грудей, живот, похожий на пустую перевернутую чашу, мерцающую над скромным треугольным кустиком, упругие овальные бедра, и решала дружить со своим телом; ведь могло достаться тело и похуже. Лежа на кровати, она могла в падающем из окна свете долго любоваться своей аккуратной щиколоткой, поворачивая ее туда-сюда, – перламутровым свечением костей и сухожилий, бледно-голубых вен, по которым осуществлялось магическое движение кислорода, – или гладить собственные руки, покрытые пушком, пухлые, сужающиеся к запястьям. Потом, в разгар замужней жизни, Александра испытала отвращение к своему телу, и супружеские поползновения Оззи казались ей жестокой насмешкой. Ее тело пребывало где-то вовне, за окнами, – засвеченная, как фотопленка, побитая дождем, обросшая листьями плоть иной ее сущности, к чьей красоте все еще жался мир; после развода она почувствовала себя так, словно выплыла-таки наружу через окно.
Наутро после решения суда Александра встала в четыре часа, выдергивала в огороде засохшие стебли гороха и пела при лунном свете, при свете белой каменной громады печально склоненного бесполого лица, пела в присутствии луны и зари, занимающейся на сером, как дымчатый кот, востоке. У этого, другого ее тела тоже имелась душа.
Теперь мир бесплодно проливался сквозь нее, утекая в водослив. «Женщина – это дыра», – однажды прочла Александра в воспоминаниях проститутки. На самом деле она не столько дыра, сколько губка, тяжелый хлюпающий предмет, лежащий на кровати и из воздуха впитывающий в себя всю тщету и муку, коими тот насыщен: войны, в которых не бывает победителей, болезни, распространившиеся настолько, что все мы можем умереть от рака. Ее дети – крикливая стая, неуклюжая, требовательная, нахальная, прилипчивая, вечно требующая пропитания, они видят перед собой не мать, а всего лишь испуганного толстого ребенка, уже не складного, не привлекательного для их отца, чей прах два года назад был развеян с самолета-опылителя над любимым горным лугом, куда, бывало, они всей семьей ездили собирать дикие цветы – альпийские флоксы и парашютики с пахнущими скунсом листьями, акониты, напоминающие монашеские клобуки, додекатеоны, похожие на падающие звезды, и ползучие лилии, растущие во влажных углублениях, оставшихся после таяния снегов.
Отец всегда брал с собой ботанический справочник, маленькая Сандра приносила ему только что сорванные дары – нежные соцветия с робкими лепестками и стебельками, замерзшими, как ей казалось, оттого, что они провели всю ночь на горном холоде, и отец объяснял ей, как они называются.
На ситцевых занавесках, которые Александра по совету Мейвис Джессап, декораторши, уволившейся из «Тявкающей лисы», повесила на окнах спальни, был крупный рисунок из произвольно разбросанных розовых и белых пионов. В колышущихся складках занав
Страница 33
сок ей отчетливо почудилось клоунское лицо, злобная бело-розовая физиономия с маленькой щелочкой рта; чем дольше смотрела Александра, тем больше их там появлялось – целый сонм зловещих клоунских рож среди набивного рисунка из пионов. Это были дьяволы. Они поощряли ее депрессию. Александра вспомнила: «малышки» ждут, чтобы она своим колдовством высвободила их из глины и превратила в рукотворные фантазии – клёклые и аморфные. Стаканчик спиртного или таблетка могли бы поднять дух и взбодрить ее, но она знала, какую цену придется за это заплатить: через два часа ей станет еще хуже. Блуждающие мысли притягивали торжествующий грохот и синкопированный лязг механизмов, доносившийся в воображении Александры со старой усадьбы Леноксов, и ее обитатель, темный принц, забравший двух ее сестер, словно намеренно желал нанести ей оскорбление. Но даже в его оскорбительности и подлости было нечто, от чего можно оттолкнуться, чтобы обрести пищу для духовных упражнений. Она мечтала о дожде, о его утешительном шелесте в черноте над крышей, но, взглянув в окно, увидела, что в жестоко ослепительной погоде снаружи ничто не изменилось. Клен, росший напротив, накрывал оконные стекла золотом своих последних выживших листьев. Александра продолжала беспомощно лежать на кровати, придавленная бесконечной тщетой, царящей там, в мире.Почувствовав печаль хозяйки, пришел добрый Коул. Его длинное тело в свободной оболочке блестящей собачьей шкуры размашисто перепрыгнуло через овальный половик, сплетенный из лоскутов, и без малейшего усилия плюхнулось на покачнувшуюся кровать. Он стал тревожно облизывать ей лицо, руки, обнюхивать ее в том месте, где она для облегчения расстегнула свои затвердевшие от грязи «Ливайсы». Александра поддернула блузку, чтобы побольше обнажить молочно-белый живот, и пес нашел на расстоянии ладони от ее пупка не предусмотренное природой уплотнение, маленький розовый бутончик, появившийся несколько лет назад, доброкачественный, не канцерогенный, по заверениям дока Пета. Он предлагал удалить его, но Александра боялась ножа. Уплотнение было нечувствительно, однако мышцы вокруг него зудели, когда Коул обнюхивал и облизывал его, как сосок. От собачьего тела исходили тепло и слабый запах гнили, но Александра не видела в этом ничего оскорбительного. Принимает ведь земля в себя продукты разложения и экскременты. Напротив, это казалось ей по-своему прекрасным – плед разложения, ткущийся в недрах.
Коул вдруг устал облизывать хозяйку и рухнул в изгиб, который образовало на постели ее отравленное наркотиком тоски тело. Во сне крупный пес храпел, издавая звуки, напоминавшие шелест дождя в стоге сена. Уставившись в потолок, Александра ждала, чтобы что-нибудь произошло. Веки внутри стали горячими и сухими, как кожица кактуса. Зрачки превратились в два черных шипа, обращенных внутрь.
Принеся свою статью о празднике урожая («…униаты планируют благотворительный базар, игру в „клоуна-ныряльщика“ и т. п.») Клайду Гейбриелу в его узкий, как пенал, кабинет, Сьюки, к собственному смущению, обнаружила его навалившимся грудью на стол и обхватившим голову руками. Услышав шелест листков, опускаемых в корзинку для текущих материалов, Клайд приподнял голову. Веки у него были воспалены, но являлось ли это следствием слез, похмелья или бессонной ночи, Сьюки сказать не могла. Она слышала, что ее редактор был не только пьяницей, но еще имел телескоп и порой просиживал ночи напролет на заднем крыльце, разглядывая звезды. Его светло-шатеновые волосы, поредевшие на макушке, взъерошились, под глазами набухли синие мешки, лицо было серым, как газетная бумага.
– Простите, – сказала Сьюки, – я думала, вы захотите глянуть на это.
Не поднимая головы выше, Клайд скосил взгляд на ее бумаги.
– Глянуть-млянуть, – пробормотал он, сконфуженный тем, что его застали в таком виде. – Этот предмет не заслуживает двухстрочного заголовка. Как насчет «Трепотни миротворца Парсона»?
– Я говорила не с Эдом, это был один из членов его комитета.
– О-опс, прошу прощения. Забыл, что вы считаете Парсона великим человеком.
– Дело вовсе не в том, что считаю я, – сказала Сьюки, демонстративно выпрямив спину.
Эти мужчины-неудачники, которых она имела несчастье притягивать, не гнушались тем, чтобы унизить человека, если он позволял им это, а не держал голову гордо поднятой. Несносную сардоническую манеру Клайда разговаривать с людьми, которая заставляла кое-кого из сотрудников ежиться от страха и портила ему репутацию в городе, Сьюки воспринимала как завуалированную самозащиту, вывернутую наизнанку мольбу о прощении. В молодости Клайд, должно быть, подавал большие надежды, но его красота – высокий квадратный лоб, широкий, предполагающий страстность рот и глаза цвета голубого льда с длинными ресницами, расходящимися звездными лучами, – потускнела. Он приобрел вид беспробудного пьяницы, изнуренного голодом.
Клайду было чуть за пятьдесят. Позади стола, на доске с прикнопленными к ней образцами заголовков и взятыми в рамочки хвалебными отзывами о «Слове
Страница 34
, выходившем при прежних руководствах, он прикрепил фотографии дочери и сына, но не жены, хотя разведен не был. Его дочь – тип хорошенькой невинной луноликой девушки – была не замужем и работала лаборантом-рентгенологом в чикагской больнице Майкла Риза, обещая стать тем, что Монти в шутку называл леди-доктор. Сын Гейбриела, исключенный из колледжа, интересовался театром, минувшим летом подвизался в какой-то сезонной коннектикутской труппе и обладал такими же, как у отца, бледно-голубыми глазами, пухлыми губами и классической фигурой древнегреческой статуи.Фелисия Гейбриел, давно сброшенная со счетов жена, некогда, вероятно, была бойкой веселой бабенкой, доставлявшей кучу хлопот, но с годами превратилась в болтающую без умолку сухонькую маленькую женщинку с заострившимся лицом. Все вокруг вызывало у нее злобу: правительство и движения протеста, война, наркотики, похабные песни, транслируемые местной радиостанцией, то, что «Плейбой» свободно продают в аптекарских магазинах, пребывающие в спячке власти города и толпы бездельников на улицах, отдыхающие обоих полов, одевающиеся и ведущие себя скандально, – словом, все было не так, как могло бы быть, имей она власть.
– Только что звонила Фелисия, – счел нужным сообщить Клайд, словно оправдываясь за позу, в которой застала его Сьюки. – Рвет и мечет по поводу надругательства, которое ван Хорн учинил над правилами пользования заболоченными землями. Кроме того, она считает вашу статью о нем слишком апологетичной; говорит, что до нее дошли весьма нелестные слухи о его нью-йоркском житье-бытье.
– От кого?
– Так она вам и сказала! Свято хранит в тайне свои источники информации. Не исключено, что она получает сведения непосредственно от самого Эдгара Гувера. – Такая антисупружеская ирония придала немного живости его лицу, он часто отпускал шуточки насчет Фелисии.
Что-то мертвенное таилось в глазах Клайда, затененных длинными ресницами. Сьюки всегда казалось, что и во взрослых детях, запечатленных на снимках у него за спиной, было нечто призрачное: круглое личико дочери напоминало совершенный, но пустой абрис, а у юноши с пухлыми губами, вьющимися волосами и чистым удлиненным лицом было на удивление бесстрастное выражение. Бесцветность самого Клайда слегка подкрашивалась коричневыми пара?ми утреннего виски, сигаретным дымом и странным кислотным дуновением, исходившим от его затылка. Сьюки никогда не спала с Клайдом, но испытывала к нему материнское чувство, полагая, что могла бы исцелить его. Ей казалось, что он тонет и судорожно хватается за свой обитый жестью стол, как за перевернутую гребную шлюпку.
– У вас измученный вид, – сказала она, набравшись смелости.
– Я действительно измучен, Сюзан. Фелисия весь вечер не отлипает от телефона – болтает о своих «важных» делах и оставляет меня один на один с бутылкой. Я слишком много пью. Раньше я отвлекался телескопом, но мне нужен магнит посильнее; в конце концов, в телескоп можно увидеть лишь кольца Сатурна.
– Сводите ее в кино, – предложила Сьюки.
– Водил. На какой-то безобидный фильм с Барброй Стрейзанд – господи, какой голос у этой женщины, пронзает, как нож! – так вот, она настолько рассвирепела из-за сцены насилия, показанной в рекламном ролике перед сеансом, что полфильма собачилась с администратором. Потом вернулась на свое место, посмотрела вторую половину картины и разозлилась, что там якобы слишком много сцен, где Стрейзанд в декольтированных платьях начала века наклоняется вперед и демонстрирует свои сиськи. Заметьте, это даже не был фильм «только для взрослых», на него допускались дети! Там пассажиры какого-то старого троллейбуса всего-навсего пели!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/dzhon-apdayk/istvikskie-vedmy/?lfrom=201227127) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Леди Птичка – прозвище жены президента Линдона Джонсона. – Здесь и далее примеч. перев.
2
Имеются в виду дочери президента Линдона Джонсона.
3
Провиденс по-английски означает «провидение, Промысел Божий».
4
Coal – уголь, уголек (англ.).
5
Ореос – разновидность детского лакомства: два шоколадных печенья, проложенные кремом.
6
Андреа Палладио (1508–1580) – итальянский архитектор.
7
«Молот ведьм» – трактат по демонологии и о борьбе с ведьмами, созданный в XV веке.
8
«Мьюзак» – американский концерн, поставляющий звукозаписи в супермаркеты, рестораны, гостиницы, залы ожидания и прочие общественные места.
9
Парсы – религиозная община зороастрийцев, потомков выходцев из Ирана, в Западной Индии.
10
Что
Страница 35
вы сказали? (нем.)11
Дети (нем.).
12
Пять (нем.).
13
Что касается меня (фр.).
14
Т. С. Элиот. Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока. Перевод Андрея Сергеева. В кн.: Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы. М., 2000. С. 21.
15
Эскобар Марисоль (р. 1930) – скульптор; француженка венесуэльского происхождения, живущая с 1950 г. в Нью-Йорке.
16
Ники де Сен-Фалль (1930–2002) – француженка, скульптор и график, считающая себя ученицей Анри Матисса.
17
Чиканос – американцы мексиканского происхождения.
18
Артистка (фр.).
19
Какой толк, кому это нужно (букв.: много из ничего) (фр.).
20
Музыкальные термины, обозначающие манеру исполнения фрагмента (спиккато и деташе – только для струнных инструментов, легато и маркато – для всех).
21
Потрясающе, сказочно (ит.).
22
Quel – какой, что за (фр.); Schmalz – топленое сало, смалец (нем.).
23
Готам – название вымышленного города из детского стихотворения. В шутку американцы иногда так называют Нью-Йорк.
24
Мескаль – мексиканская водка из сока алоэ.
25
Моя корова. Моя белая корова (ит.).
26
От англ. thumb – большой палец.
27
«Вулворт» – сеть магазинов, получившая название по фамилии основателя, Фрэнка Уинфилда Вулворта (1852–1919).


