Читать онлайн “Пражское кладбище” «Умберто Эко»
- 02.02
- 0
- 0
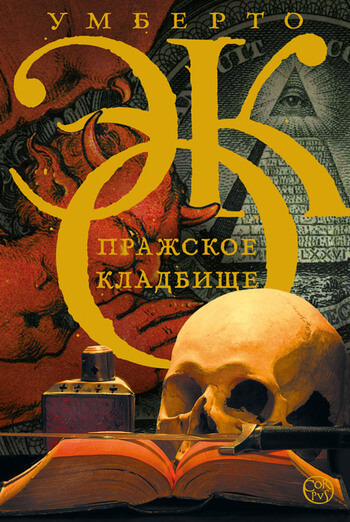
Страница 1
Пражское кладбищеУмберто Эко
Действие романа «Пражское кладбище» разворачивается почти целиком во Франции, но последствия этой интриги трагически поразят потом целый мир. В центре событий довольно скоро окажется Россия, где в 1905 году была впервые напечатана знаменитая литературная подделка «Протоколы сионских мудрецов». В романе документально рассказано, чьими усилиями эта подделка была создана. Главный герой очень гадок, а все, что происходит с ним, и ужасно, и интересно. Автор, строя сюжет в духе Александра Дюма, протаскивает затаившего дыхание читателя по зловонным парижским клоакам и по бандитским притонам, вербует героя в гарибальдийское войско, заставляет его шпионить на все разведки и контрразведки мира, в том числе и на русскую охранку, укрощать истеричек из клиники доктора Шарко, распивать пиво с Зигмундом Фрейдом, форсить бок о бок со Свободой на баррикадах и даже участвовать в сатанинской мессе. Одновременно, как всегда, Умберто Эко выдает читателю в оболочке приключенческого романа огромный заряд знаний и идей.
Умберто Эко
Пражское кладбище
От переводчика
Добравшись до завершающей фазы своего шестого романа, Эко состриг бороду, отрастил развесистые усы и стал похож на французских буржуа мопассановского времени в жилете, с брюшком и с тростью. На запечатленных художниками «Отверженного салона» господ, которые после долгой государственной прыготни из монархии в республику, из республики в монархию, от пораженчества к реваншизму, от бунтарских кокард к шапоклякам и гардениям в петлице наконец остепенились и своими вальяжными манерами и гурманством, жовиальностью, эгоистичным жизнелюбием явно взялись воспроизводить невыветриваемый образ Александра Дюма-отца, то есть того, кто и есть в общепринятом международном представлении эталон Франции.
У Дюма Умберто Эко позаимствовал и в самом деле немало. Не только внешнюю атрибутику. Эко – такой же обольститель читательских масс, выдающий в оболочке приключенческого романа заряд знаний и идей, которого хватает читателям на целую жизнь. Он, как Дюма, живописует то, чего сам вроде бы и не видел, потому что лихо использует документ.
Имеется, однако, между этими гигантами пера одна серьезная разница, кроме той явной, что Умберто Эко не мулат и на него не работают «негры».
Умберто Эко пишет романы нравственного содержания.
Развлекательность авантюрная (для всех) и интеллектуальная (для любителей) в романах Эко – на службе крепкой моральной программы.
«Имя розы» – роман об умственной свободе, «Маятник» – о необходимости умственную свободу окорачивать здравым смыслом. «Остров накануне» – о том, что человеческая жизнь осмысленна тогда, когда ум мобилизуется на борьбу со страхом смерти. «Баудолино» – о том, как превосходно, что человечество свою глухую борьбу за выживание разрисовывает веселыми красками исторического вымысла и из героического, полумифического прошлого черпает силы для новой борьбы. «Таинственное пламя царицы Лоаны» – тоже о выстраивании истории, но истории индивидуальной, причем частная судьба плотно привязывается к судьбе общества узами ответственности и морали.
И вот, наконец, дописано давно задуманное «Пражское кладбище». И в нем центральная мысль – как из психопатического суеверия зачалось и явилось в человеческий мир, пройдя по родовым путям словесности, как и другие судьбоносные тексты – Тора, Евангелие, Коран, «Марсельеза», «Декларация прав человека и гражданина», «Коммунистический манифест», цитатник Мао, – еще одно руководство к действию, раскрепостившее убийственную силу, которая послала на гибель миллионы.
Это как фильм «Жизнь прекрасна»: предложен дивертисмент на тему материала, который ну совсем уж нисколько не смешон.
Действие происходит именно-таки во Франции, на душевной родине писателя, в стране, которая первая возвела на вершину общественной престижности интеллектуализм, где впервые сумели церковь отгородить от государства, где впервые с высшей государственной трибуны утвердили лозунги свободы, равенства и братства, где поэзия звучна, проза остроумна, диалоги быстры, а порнографические виньетки изящны.
Эко до того влюблен во Францию, прожив в своей парижской квартире многие месяцы, и, наверно, если посчитать, годы, что имеет полное право крикнуть: именно Франция, эта тонкая умственная среда, была тем ателье, где слепили пробный макет конструкции, которая потом попала в руки темных неулыбчивых людей и в особенности – одного бездарного австрийского художника и позволила ему загнать в вонючие теплушки с полами, залитыми негашеной известью, в бараки-отстойники, в газовые душевые с «циклоном Б» по одной только Европе не менее шести миллионов людей. Франция, принято считать, была изобретательницей этой мерзости. Россия – рекламным агентом и продюсером: именно в русских журналах и издательствах эта мерзость в 1905 году была впервые напечатана. Печатается и продается она в России до сих пор. Литературная композиция, о которой пойдет речь, носит одиозное название «Протоколы си
Страница 2
нских мудрецов». Мировой бестселлер, так сказать. В рейтингах самых продаваемых на свете книг эта занимает второе место после, ну, иначе не могло быть, Библии. За счет читателей с территорий, где исповедуется ислам.Вот еще раз речь в романе пойдет о книге, которая убивает (помните сюжетную завязку «Имени розы»?). Эко, узнавший и высказавший о книгах все, что можно сказать, не удержался от соблазна – развинтить адскую машинку, понять, как устроена она.
Как? Ну а как? А устроена так же, как и остальные книги. Поддается литературоведческому анализу. Историко-литературному разбору. Мы его в романе, без обмана, в полной мере, к нашему превеликому удовольствию, и получим.
Но не бесстрастная любовь к курьезам осенит собой это интересное культурное занятие. Читатель ни на минуту не перестанет помнить, что за прелестную вещицу он созерцает. Для этой цели особо выписан центральный герой – Симонини. По сюжету, он поддельщик документов, изобретатель «Протоколов». Этот хитрюга и пачкун – противнейшее порождение литературного пера, на какое только Умберто Эко оказался способен.
С первой же строки Эко ставит себе трудную задачу: писав книгу как монолог от первого лица, вызвать в читателе по отношению к герою отчетливую рвотную реакцию. Нелегко пришлось и переводчику.
У писателя это получилось. Будем надеяться, получилось и по-русски. А так как читать интересно именно о злодеях, можно сказать, здесь Умберто Эко снова выигрывает соревнование с самим собой. Держа читателя на крючке занимательности, через приключения в стиле того же Дюма (Дюма во плоти – в романе среди действующих лиц!) автор протаскивает затаившего дыхание читателя по зловонным парижским клоакам. Эта канализация и постоянно присутствующая в сюжете вонь – еще одна метафора, чтобы не забывать, из какого материала вылеплена литературная мистификация. Эко гоняет героя по рыгаловкам и притонам, вербует в полубандитское гарибальдийское войско, заставляет шпионить на все разведки и контрразведки мира, в том числе и на русскую охранку, укрощать истеричек из клиники доктора Шарко, распивать пиво с Зигмундом Фрейдом, форсить бок о бок со Свободой на баррикадах и даже участвовать в сатанинской мессе с включенной в расписание би– и гомоэротичной педофил-оргией. Сочинять вместе с проходимцем Лео Таксилем «Занимательную Библию» и «Занимательное Евангелие», те самые, которые, распубликованные в «Политиздате» пятимиллионными тиражами, красовались в каждом втором советском доме на чешских с раздвижными стеклами книжных полках или внутри гарнитуров «Хельга», демонстрируя, что прощелыге Таксилю посмертно и без всякого для себя коммерческого толку удалось-таки околпачить громадную государственную пропагандистскую махину. Не во Франции, так в СССР. Ведь Таксиля действительно воспринимали в советском политпросвете как невесть какого убежденного борца с религиозным ретроградством.
Напридумывал Эко с три короба, сказал бы неподготовленный читатель. Теперь не скажет! Он у нас сейчас станет подготовленным: пусть читатель с самого начала знает, что придуманных героев и историй в этом романе нет. Все, что описано, основано на фактах. Это мы сами видим по Таксилю (в Европе Таксиля опознать никто не может, Таксиль в Европе начисто неизвестен).
Сплошные факты – свидетельствует и Умберто Эко в своем послесловии. Единственный выдуманный герой, добавит он, это сам Симонино Симонини. Да и тот, увы, похоже, до сих пор существует, он, похоже, все еще среди нас.
Симонини злодей, и поэтому следить за ним интересно. Он еще и со всех точек зрения кошмарен: жирен, труслив, неопрятен, лжив, вороват, агрессивен, подобострастен, нагл, подл, неспособен к дружбе, неспособен к любви, неспособен к сексу, невротик, страдает раздвоением личности. Одной только неприятной черты в этом авторе «Сионских протоколов», как ни крути, не доищешься. Симонини не антисемит!
Вот до какой степени Эко любит парадоксы. Вернее сказать, вот до какой степени Эко понимает, что в жизни всегда есть место парадоксу.
Симонини не знает евреев, почти не общался с ними. За что же ему их ненавидеть? Так автор подводит нас к изумительной ситуации, которая не раз и не два повторялась в частной и общественной жизни. Антисемитизм, разъедающий изнутри многие людские общества, породивший океаны насилия, моря жертв, довольно часто имеет место как явление чисто головное. Эмоциональность в него приходится привносить дополнительными средствами, зачастую – лживыми подтасовками. Это верно по отношению к истории европейского антисемитизма, который по характеру – феномен религиозной, а не расовой неприязни. Италия, где живет и работает Эко, – тому пример. Та иудеофобия, которая встречается в Италии, она в основном умственная.
А расового, нутряного антисемитизма в Италии отродясь не знавали.
Религиозный – имеется. В его насаждении католическая церковь преуспела. Относительно идеальной цели – процентов на сорок пять. Но все-таки, факт есть факт, преуспела.
У того же Эко в многочисленных интервью, данных по случа
Страница 3
выхода этого романа, прослеживается его постоянная идея: что для единения масс потребен не совместный идеал, а совместный противник. По принципу «против кого дружить». Только что вышел сборник публицистики Эко с красноречивым названием «Сотвори себе врага». Много напряжения, конфликтов, геноцидов, ересей, церковных преследований и заурядных преступлений в человеческой истории как раз на сотворении врага и зиждилось. В романе «Пражское кладбище» рассмотрен один из вариантов параноидальной зацикленности на «враге» – антисемитизм.Термин «антисемитизм» был введен в обиход относительно недавно (в 1879 году) венским заштатным журналистом Вильгельмом Марром. Неприязнь же христиан к евреям имеет далекие корни и возникла в пятом веке, как только новая модификация иудейской доктрины – христианство – стала официальной религией империи Рима. Первые христиане считали именно себя «правильными» евреями. Евреи же, конечно, думали наоборот, то есть что христиане – опасные еретики. В русле этого первого внутрипартийного конфликта у христиан возникла тенденция интерпретировать разрушение Иерусалимского храма в 70 году н. э., а также всего Иерусалима в 135 году н. э. как божие наказание уклонистам. Тогда же возникли первые разговоры о богоубийстве руками иудеев. Взаимное раздражение нарастало. В девятом веке в литургию христианской пасхальной мессы в тот стих, где возносились молитвы за язычников и иудеев, была введена зловредная поправка: «за евреев молиться не преклоняя колен». Вот он, первый случай, когда вредность уже начала походить на анекдот. А дальше стала отпадать охота смеяться.
Тысячный год, коллективная истерия в ожидании конца света. Первые крестовые походы принимали в себя, наряду с регулярными армиями, и бандитскую вольницу. Подобной ораве нужно же было кого-то грабить! Грабили язычников, грабили политических оппонентов, а то и ни в чем не виноватых христиан – например, жителей Константинополя в 1204 году (что Умберто Эко выразительно описал в начале романа «Баудолино»). Но, естественно, грабить еврейские кварталы было логичнее всего.
Церковь должна была срочно приспосабливаться к действительности и как-нибудь оправдывать мародеров, чтобы не пришлось своих же вояк показательно вешать. В 1179 году Третий Латеранский собор ввел законоположение, в силу которого клятва еврея стала иметь меньшую юридическую силу, нежели клятва христианина (что было очень удобно для полевых судов). В 1215 году Четвертый Латеранский собор ввел особую форму одежды для евреев. Опять же это упростило развитие событий в любом уличном конфликте и в полицейском его улаживании.
До тринадцатого века евреи в Европе говорили, питались и одевались так же, как их соседи-христиане, и вообще со времен религиозного распутья это положение длилось чуть ли не тысячу лет! А тут вдруг, нате вам, вводятся правила, явно показывающие – вот он, тот, кого ты искал, вот он, погляди на него, это же Другой.
Жизнь в условии запретов побуждает людей вырабатывать соответствующие привычки. Запрет на владение землей и постоянная гонимость евреев выработали у них готовность к переселениям, легкость в овладевании языками и традицию вкладывать сбережения в единственную форму, легко перемещаемую (хотя и легко отнимаемую), – драгоценности. Церковь в средневековой Европе препятствовала развитию грамотности в массах, желая бесконтрольно управлять народами во всех аспектах: экономическом, общественном, нравственном и семейном. Католицизм не способствовал демократизации книжной культуры. Особенно же церковь опасалась проникновения в Европу аристотелевских идей через аверроэсову арабскую культуру (об этом Эко написал в романе «Имя розы»), равно как и через иудейскую (через сочинения Маймонида). У христиан не бывало книжек дома – у евреев книги имелись в каждой семье. Классический обратный стереотип: христиане чураются книг – евреи обожествляют их. Ну а национал-социалисты, еще раз демонстрируя протестное поведение, на площадях Германии в тридцатые годы сооружали из книг костры.
Неученые европейцы даже думали, будто еврейские книги полны кощунственного колдовства (это при том, что Талмуд – помесь настольного календаря с «Домоводством»!). Раз так, евреи работали в образе и доходили до шаманства, создавая вокруг себя видимость, будто да, книги у них заколдованные, знание – надмирное. Рождалась вся бутафорика Каббалы. (Мысль о гораздо более поздней, но интересной ситуации: азбука языка идиш, который – жаргонное отпочкование от немецкого, не именно ли для создания таинственной волшебной атмосферы продолжала использовать древнееврейские письмена?)
Средневековое общество Европы передало евреям функцию ростовщичества потому, что христианам церковь прямо запрещала эту профессию. Талмудом, кстати, ростовщичество тоже запрещается, но раввины по необходимости применяли к запретам мягкое истолкование. Как реакция на этот род занятий, в сочетании с евангельским мотивом тридцати сребреников сформировался антипатичный и опасный миф о «еврейском стяжательстве», который мы
Страница 4
встречаем повсеместно в классической литературе. Шейлок – один из самых стойких стереотипов спонтанной неприязни и даже ненависти.Реакция еврейских сообществ на выталкивание их из цивилизации Европы была достаточно адекватной, ударом на удар, а иногда бывала даже и чрезмерной. На фоне гигантской коллективной травмы абсолютизировалась идея собственной культурной ни-начто-не-похожести, чего последствия всем известны: обособление языковое, поведенческое, территориальное (иврит, идиш, кошер, гетто).
В четырнадцатом веке в Европе формировались современные нации. В противостоянии имперскому и папскому универсализму формировалось европейское самосознание в виде суммы национальных менталитетов. Процесс этот шел через глубокий кризис и через катастрофы. Столетняя война, крестьянские восстания, голод 1315–17 гг. и, наконец, чума 1347–48 гг. выбили треть населения Европы. Представить это себе можно через картинку: мир после ядерной войны. Естественно, не могло не возникнуть чувство, что подобная беда сама по себе явиться не может. Все активнее общество нацеливалось на отыскание злоумышленника, владеющего сверхъестественной силой. Ясно, что на эту роль превосходно подходили евреи с их непонятным языком, необъяснимым стилем жизни и колдовскими книгами. Так церковная инквизиция получила возможность удобного выхода из любого тупикового процесса. В народную мифологию накрепко вошли фигуры вредителей: дьявол, ведьма и еврей. Нередко в искусстве, особенно в Италии, еврей изображался в образе скорпиона. В 1495 году Испания, мобилизуясь для освоения Америк, привела в порядок свою внутреннюю обстановку очень радикально. Дабы перестать с евреями ссориться, применили окончательное решение. Дали выбор: отъезд, крещение или смерть. Гуманнее, нежели нацисты, которые выбора не то что тройного, а и двойного не давали.
Эко разместил события в Европе в веке, наступившем после крупных политических революций. И именно осмысляя опыт сильной перетряски – Французской революции – и опасаясь его повторения, буржуазная культура снова взялась истолковывать историческую катастрофу как козни закулисного агента, нарочно переводящего стрелки истории. Врага сотворяли по тому принципу, что явно он или колдун, или тайный заговорщик. В одних версиях оккультная регулировка истории выступала основным механизмом, в других второстепенным. Но верили: ничто само не делается, за всем что-нибудь тайное да скрыто. Так и рождались байки то о заговоре двенадцати колен, то о розенкрейцерах, то о тайном комитете работающих в подполье тамплиеров, то о масонах, то о иезуитах. Вот только до пришельцев из космоса они тогда не додумывались, оставили следующему веку. А тут еще Наполеон в 1807 году созвал еврейский Большой Синедрион. Ну и аббат Баррюэль с Жозефом де Местром вовремя выдвинули полезную и изящную идею: за всякой революционной заварухой скрываются заговорщики – евреи.
Надо сказать, что при воспроизведении бредовых домыслов и чужих мыслей автор строит повествование настолько сложно, что порой его обвиняют в недостатке политкорректности.
«Читая столько гадких фраз против евреев, читатель перепачкивается антисемитской грязью, и можно предположить, что некоторые способны в конце концов и поверить этим поклепам. […] Зло в книге описано, но не заклеймлено. Отсутствуют положительные герои, читателю не с кем отождествиться, в результате выходит какой-то аморальный вуайеризм…»
А мы-то думали, подобная критика бывала только в советской печати! Нет, это пишет о «Пражском кладбище» главный раввин города Рима Риккардо Ди Сеньи: «Полагаю, смысл книги Эко неясен. […] Что вынесет читатель из нее? Правда или неправда – то, что в ней сказано про еврейский заговор, масонские, иезуитские? Ведь читатель так и не поймет: намерены или не намерены евреи разрушить цивилизованное общество и захватить полную власть над миром?»
Говорить такое – не доверять читателю. А ведь не кто иной, как Эко создал теорию Идеального читателя, посвятил ему целую книгу. И точно: читатель книг Эко, как говорили в советских школах, растет над собой. При этом и хохочет, и огорчается, и сопереживает читаемому. Радость увлекательного текста – и радость от работы собственной мысли.
Думается, во многих странах содержание этого романа Эко расшифруют без ошибок. Во-первых, именно в Италии, сколько бы ни беспокоился раввин. В Италии неспроста уже продано семьсот тысяч экземпляров. Очевидно, читателям в этой стране хочется и узнать много нового, и развлечься, и обдумать собственную историю – поведение католической церкви, позорные расовые законы.
Книгу с трепетом и довольно неоднозначно восприняли в Германии – ну, тут и пояснения не нужны.
Франция? Целый год после выхода «Пражское кладбище» – главный бестселлер во Франции, хотя, если задуматься, мрачноватое зеркальце Умберто Эко им преподнес.
Ну а теперь Россия. Опять-таки, разве требуется разжевывать? Здешний еврейский вопрос не упишешь и на бумагу, превышающую длиной даже и сам эковский роман. Кто слово «погром» ввел в чужие
Страница 5
зыки? Да сами-то протоколы кто сочинил – не вымышленный же романистом Симонини? Поди, какой-нибудь русский крушеван или другая аналогичная сволочь. Не случайно цитируются в романе и Достоевский, и идеологи царизма, и шефы Третьего отделения. С другой стороны, не евреи ли после революции преимущественно сформировали первые большевистские комитеты, расстреливали, проводили коллективизацию, сшибали кресты и колокола с церквей? Сталин, мы помним, со вкусом вещал: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть последовательными и заклятыми врагами антисемитизма». Как всегда, обман с точностью до наоборот. На деле-то что было? Этим «заклятым врагам антисемитизма» пришло же в голову (после Освенцима!) лазить в трусы врачам и знаменитым литераторам и расшифровывать псевдонимы?В общем, напрасно беспокоится римский раввин. Читатели в самых разных странах, увы, подготовлены по теме антисемитизма довольно, чтобы не колебаться, решая, на чьей же стороне находится автор.
Хотя все же, думается, раввин и вправду подметил опасное место.
Так как Эко читает множество книг и постоянно забавляется самыми удивительными толкованиями истории и общества, он, да, дал повод некоторым критикам подумать, будто и к данному материалу автор отнесся как к интересному интеллектуальному курьезу. Равноправному с другими курьезами.
В романе не слышно громогласных порицаний, проклятий. Моральных проповедей. Нет ожидаемого болевого надрыва, нет разговора о последствиях, о том, что же случилось дальше, после опубликования выдуманных Симонини по заказу царской охранки «Протоколов». Нет, это кратко проговорено, но в приложении.
А что, разве требуется перечислять последствия? Разве мир не помнит историю Германии и Европы начиная с 1924 года, когда Гитлер, сидя в уютной тюремной камере после неудавшегося мюнхенского путча, проработал с карандашом этот интересный текст, попутно надиктовав свою во многом «Протоколами» навеянную «Майн Кампф»?
Пожалуйста. Вот – последствия.
Двадцать шестого апреля 1933 года, через три месяца после прихода к власти, Гитлер принял католических епископов и сказал им: «Меня упрекают в предвзятом подходе к еврейскому вопросу. В течение 1500 лет католическая церковь считала евреев зловредными существами (Schaedlinge), содержала их в гетто и так далее, потому что известно, что такое евреи. Вот я и воспринимаю их как вредные элементы для государства и церкви и тем самым оказываю христианству неоценимую услугу»[1 - Г. Мюллер, «Католическая церковь и национал-социализм», документы 1930–1935, Мюнхен, 1963, с. 118.].
Это он с епископами так. А перед толпой на площадях Гитлер говорил иначе. Он перед толпой не переставлял акценты с расового аспекта на религиозный. Двадцатый век придал всем предшествовавшим антисемитизмам острую складку. Он, двадцатый век, как в пещерной до-истории, шел с дубиной не на религию, а на расу. Убивали не за веру, а за кровь. И учились этому по «Протоколам».
Мы не забываем о последствиях в нацистском, германском мире, и мы не забываем также, что жертвы «Протоколов» многочисленны и в Италии, и во Франции, и в США, где «Протоколами» пользовался ку-клукс-клан. И конечно же в России. И во всем исламском мире. Шествие «Протоколов» по человеческим костям победой над Гитлером отнюдь не закончилось. И покамест этому шествию не видно конца.
В книге Эко прямо не сказано об этом. Сюжет просто замер на рубеже двадцатого века. Но ведь это не монография, а роман.
Даже и после Гитлера, после Освенцима и Треблинки, после того как союзники все это нечеловеческое, что там оказалось, запротоколировали, описали, засняли, зафотографировали и распространили информацию по всему миру – даже и тогда на мировом уровне с необходимой громкостью не прозвучал приговор этой книге («Протоколы…») и пропагандируемому в ней античеловеческому бреду.
До поры до времени молчала христианская церковь.
На ее совести много чего в этом смысле накоплено. Один из идеологов итальянского фашизма Роберто Фариначчи не случайно говорил: «Если мы как католики стали антисемитами, к тому вели проповеди церкви за прошедшие двадцать веков. […] Не получится у нас за несколько недель отказаться от антисемитских принципов, внедрявшихся церковью в ходе тысячелетий».
В 1899 году, после дела Дрейфуса во Франции, но еще до дела Бейлиса в России, когда уже опасно забродила эта острая тематика в странах Европы, кардинал Воган и несколько других авторитетных представителей английского католицизма обратились к Ватикану с требованием опровергнуть легенду о ритуальных еврейских убийствах с кровопусканием. В сущности, предлагалось, чтобы церковь дала задний ход по линии своего же собственного утверждения о святом страдании некоего младенца из Тренто, якобы замученного евреями, а звали
Страница 6
младенчика Симонино – вот, оказывается, как объясним выбор имени главного героя в романе.Церковь тогда навета не опровергла, публично не отмежевалась.
Когда в Италии, при нулевой поддержке населения, Муссолини, подстрекаемый Гитлером, вынудил короля ввести несозвучные духу этой страны расовые законы против евреев (расовый подход, повторю, неспецифичен для Италии), папа не протестовал. Мы говорим о Пии Двенадцатом. О папе, на чей понтификат пришлись Вторая мировая война и геноцид. Его предшественник Пий Одиннадцатый, видя, как дегенерирует мировая обстановка, судя по архивным находкам, готовил протестную энциклику Humani Generis Unitas против расизма и антисемитизма (хотя и исполненную религиозного антииудаизма). Энциклика должна была быть опубликована 15 мая 1939 г. Но папа не вовремя скончался, и созданную им энциклику запрятали, не опубликовали. Танец разоблачений, контрразоблачений, пропагандистских заявлений по вопросу об этой «утаенной энциклике» длится и по сегодняшний день.
Пий Двенадцатый робко высказался против расовых преследований в 1939 году. Один только раз: «Пусть властители народов, у которых в руках меч, памятуют, что не должны располагать жизнью и смертью людей по причине их национальности или происхождения, а единственно в силу закона божьего, от Бога же на земле всякая власть». Эта фраза – все, что было сказано Пием XII против уничтожения евреев и цыган, дискриминации африканцев и славянских народов. Риббентроп через посла в Ватикане пугнул папу даже за этот вялый звук: «Проинформируйте его, что Германия не потерпит подобного и найдет способ заставить к себе прислушаться». Пий XII ни разу публично не произнес слово «еврей», слово «нацизм». Немецкому писателю Хохгуту принадлежит часто цитируемая формула: «Никогда в истории такое количество людей не платило жизнью за пассивность всего лишь одного отдельного исторического лица».
Речь об официальной партийной позиции. Конечно, на уровне личностей, простого духовенства, рядовых прихожан порядочных людей было множество, да и героев; мало ли было героев. Мало ли людей в Европе рискнуло жизнью и даже приняло смерть, оказывая помощь уничтожаемым. В Аллее праведников в Яд-Вашеме сколько деревьев шумит листвой в память о них!
А официальная тогдашняя позиция церкви восторга не вызывает. Архиепископ Мюнхена Михаэль фон Фаульхабер высказывался в 1933 году, еще до принятия нюрнбергских «Закона о гражданине Рейха» (Reichsb?rgergesetz) и «Закона об охране германской крови и германской чести» (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), но уже при появлении законодательных актов в духе арианства, защиты расы, стерилизации, недопущения браков: «Подобное отношение к евреям, – писал архиепископ, – до такой степени нехристианское, что любой христианин, не говорю уже любой священник, обязан быть предубежден против него». Однако дальше архиепископ развивал свою мысль в немилосердную и циничную сторону: «Тем не менее для церковной среды существуют и более насущные проблемы. Школа и защита католических общин на нашей Родине еще важнее, а поскольку мы имеем основания полагать, и это уже проявляется на практике, что евреи в состоянии постоять за себя сами, следовательно, у нас нет никаких причин давать правительству повод переходить от антиеврейской ненависти к ненависти антииезуитской». С подобными же речами в том же году выступил и архиепископ Линца.
Для глубокого понимания романа «Пражское кладбище» эти исторические факты необходимо знать. И непременно надо знать, как поменялась позиция высшего духовного руководства христианской церкви по вопросу об этой мировой трагедии. В тридцатые и сороковые годы она выглядела как пассивное приятие. А вот к концу семидесятых годов зазвучала совершенно иная огласовка.
Папа Иоанн Павел Второй, сделавший тему памяти центральной темой своего понтификата, начал работу в новой должности с официального посещения Освенцима (1979 г.), побывал в Маутхаузене в 1998 г. и в Майданеке в 1999 г. В 1995 году, выступая с балкона перед толпой, собравшейся на площади Святого Петра, папа торжественно призвал почтить память варшавского гетто и сказал: «Страшная память Катастрофы – ночь истории, в нее вписаны невиданные преступления против Бога и человека». 13 апреля 1986 года – первый понтифик после святого Петра – Иоанн Павел переступил порог римской синагоги и назвал евреев старшими братьями христиан. И что самое существенное, в воскресном «Ангелусе» 14 января 1994 года папа попросил у евреев прощения за «предрассудки и псевдотексты […], послужившие в качестве предлога для долгой ненависти в отношении братьев-евреев», повторив ту же формулу и на торжественной церемонии в базилике Святого Петра 12 марта 2000 года. Войтыла имел в виду под «псевдотекстами» в первую очередь то самое, о чем и это наше предисловие и весь увлекательный приключенческий роман Эко, – тот самый фальшивый текст, из-за которого заполыхал весь планетарный сыр-бор.
Вот, похоже, самое эффективное, чем удастся с этой ползучей дрянью
Страница 7
бороться: прямой речью руководителей христианской церкви с высоких трибун. Здесь прямые высказывания уместны. А в романе прямым высказываниям не место. Как и прямой исторической полемике. Трудно передать, сколько было уже за минувший век предъявлено аргументов против этой подделки. Охотник на провокаторов легендарный Владимир Львович Бурцев, один из свидетелей на Бернском процессе 1934–1935 гг. о ложности «Протоколов», выпустил в 1938 г. известнейшую книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог», где все по полочкам разложил, поясняя, что «Протоколы» являются сфабрикованной фальсификацией и не имеют исторической достоверности. За этой книгой были опубликованы еще десятки книг и статей.Но в ответ появились контркниги и контрстатьи, часто безграмотные, но дико нахрапистые. Если уж даже такие, казалось бы, рассудительные практические люди, как Генри Форд, в своих коммерческих интересах седлали этого опасного тигра! В 1920 году в США Генри Форд спонсировал издание «Протоколов» тиражом пятьсот тысяч экземпляров, опубликовав также в 1920–1922 гг. в газете The Dearborn Independent серию антисемитских статей, озаглавленных «Международное еврейство. Важнейшая проблема мира», и писал: «Протоколы вписываются в то, что происходит. Им 16 лет, и вплоть до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации».
В странах, где нет запрета, «Протоколы» выходят большими тиражами и находят благодарных читателей. Разве справишься с этим методом ученого опровержения? Упорно бубня, что ложь – это ложь? Еще поди убеди! Ведь существуют группы обученных азбуке людей, и даже защитивших диссертации и хорошо играющих в шахматы, которым не втемяшишь, что Иван Грозный и Генрих Восьмой – не одна и та же историческая фигура.
Можно сколько угодно доказывать, что «Протоколы» – подделка. Плохо именно то, что любое опровержение работает на рекламу темы. Так устроена массовая информация. Пусть упоминают ругательно, обличают с пеной у рта – лишь бы упоминали. Гитлер писал в «Майн кампф»: «“Франкфуртер цайтунг” постоянно плачется перед публикой, что “Протоколы” якобы представляют собой подделку; это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности». Что еще можно добавить? Полемика против – не прием.
Печатать эту бредятину, ясно, не надо бы. Жаль, однако, что российская государственная цензура наградила титулом правомочного этот лживый и погубивший много жизней текст. В России в январе 2006 года члены Общественной палаты и правозащитники выступили за внесение в законодательство поправок, предполагающих создание списка запрещенной к распространению в России экстремистской литературы, в который были бы включены и «Протоколы». Но по состоянию на январь 2011 года «Протоколы» не включены в Федеральный список экстремистских материалов.
Как же можно переагитировать широкие массы, что сионских мудрецов на свете нет? Да еще в эпоху интернета, когда все, что высказано, становится свято, а высказываться имеет право любой, и писучесть этого «любого» пропорциональна его неграмотности?
Только средствами художественной литературы. Не крича, а высмеивая, реконструируя, развлекая. Задействуя специальные приемы работы с опасными веществами. Без драматизма. Без боязни оказаться понятым превратно.
Эко доверяет своим читателям. Перед ними нет необходимости вопить и бить в набат. Эко привык действовать средствами сильнейшего на свете оружия, которое «металлов тверже» – средствами литературного слова.
Пускай моральное предостережение, заключенное в оболочку романа-фельетона, у Умберто Эко и не широковещательно, не крикливо, но тем громче оно «выстреливает» на причудливом фоне, казалось бы, легкомысленных мелочей, интриг, рецептов, анекдотов и бытовых штрихов. Этому автору подвластны и игристое французское острословие, и британский невозмутимый юмор (вспомним шуточки Вильгельма Баскервильского). Предостережение звучит пусть негромко, ну а смысл сообщения – оглушителен. Так «выстреливает» бесстрастная реплика английского дворецкого, когда в Лондоне потоп и бешеной водой выбивает двери холла: «Темза, сэр».
Елена Костюкович
Пражское кладбище
Поскольку и отступления важны, и даже они основное в историческом романе, мы включили повешение ста мирных жителей на площади, сожжение живыми двоих монахов, прохождение кометы. Каждое такое отступление неоценимо, оно замечательно отвлекает читающего от смысла.
Карло Тенка, «Дом псов»
1. Прохожий, в то серое мартовское утро
Прохожий, в то серое мартовское утро 1897 года переходящий на свой страх и риск площадь Мобер, или Моб, как зовется это место у разного жулья, – в Средневековье это было сердце университетского Парижа, где кишели школяры с факультета свободных искусств, что на Соломенной улице, а потом место казни вольнодумцев, например Этьена Доле, – оказался бы в одном из считанных уцелевших, не снесенных бароном Оссманом средневековых кварталов, в гуще зловонных переулков, пересекаемых рекою Бьеврой, которая тогда еще не была убрана
Страница 8
в подземную трубу и бурлила, извиваясь и рыча, на сливе в близко протекавшую Сену. Около площади Мобер, незадолго до того изуродованной бульваром Сен-Жермен, сохраняются старые переулки: Мэтра Альбера, Святого Северина, Галандова улица, Дровяная (Бушри), Святого Юлиана Странноприимца (Сен-Жюльен-Ле-Повр). Переплетаясь, они тянутся до самой улицы Квашни (Юшетт). Все эти улочки в те поры были истыканы сквалыжными притонами. Хозяева их были обыкновенно из Оверни, азартной алчности, и просили за первую ночь по меньшей мере франк, за прочие по сорока сантимов плюс еще двадцать сантимов, если постоялец требовал простыню.Поверни путник на улицу, впоследствии получившую имя Фредерика Сотона, а тогда, когда происходили события, звавшуюся улицей д’Амбуаз, приблизительно на ее середине, меж борделем, замаскированным под пивную, и таверной, предлагавшей с гадчайшим вином закуску стоимостью в два су (плата уже и тогда посильная для студентов соседней Сорбонны), путник попал бы в закоулочек или тупичок, по нашим сведениям переименованный в 1865 году в Моберов, а в предшествовавшие времена носивший имя Амбуазова тупика и приютивший в себе кабак «тапи-франк», то есть из таких самых разничтожных, что ни на есть отпетых питейных заведений, где хозяйствует какой-нибудь уголовщик, а сходятся там бандиты и ворье. Место это печально известно среди прочего тем, что в восемнадцатом веке там варили свои зелия три знаменитые отравительницы, сами же и задохнувшиеся от смертоносных испарений собственного производства.
В торце тупика неприметное оконце лавки старьевщика объявляло слеповатыми буквами о торговле «хотя подержанными, но пристойными мебелями». При этом стекла, густо и мутно перемазанные изнутри чем-то пыльным, не позволяли видеть ни товары, ни внутренность магазина, поскольку были по двадцати сантиметров в деревянном частом, будто тюремная решетка, переплете. Возле окна располагалась и дверь, постоянно запертая, а рядом со шнурком звонка висела записка, гласившая, что хозяин на минуточку вышел.
Если же – редкий случай – дверь была бы не затворена, вошедший смог бы в неясном освещении разглядеть внутренность трущобы. На немногих и шатких этажерках и на таких же валких столах громоздилось множество безделушек вроде бы и привлекательных, но при внимательном рассмотрении непригодных для порядочного коммерческого оборота, даже если на них указывались бы столь же трепаные цены: фигурные изложницы для поленьев, способные обезобразить любой на свете камин, ходики с облупленной синею эмалью, подушки, в незапамятное время ярко вышитые, цветочницы с ангелками из керамики в трещинах, перекошенные тумбы неопределенного мебельного стиля, ржавая железная записочница, шкатулки, украшенные выжиганием, отвратительные перламутровые веера с китайцами, ожерелье под янтарь, белые валяные шлепанцы с яркими пряжками, украшенными «ирландскими брильянтами» – то есть горными хрусталями, выщербленный Наполеон в виде бюста, коллекция насекомых под расколотым стеклом, фрукты пестрого мрамора, еле различимые сквозь утратившие прозрачность колпаки, кокосы, старые альбомы с непритязательными акварельками (сплошные цветочки), несколько обрамленных дагеротипов (это было время, когда в дагеротипах не было ничего антикварного). Так что ежели посетитель сдуру и польстился бы на эти мизерные рукоделия, из которых любое – последний ломбардный заклад нищенствующего семейства, и приценился бы, подойдя к подозрительнейшей наружности старьевщику, то услышал бы в ответ такую сумму, от которой всякое желание продолжать торги начисто улетучилось бы даже и у самого закоснелого ловца антикварных монструозностей.
Все-таки ежели бы, не удовлетворившись, посетитель, в силу невесть откуда взявшегося права, двинулся через вторую дверь на лестницу, то есть захотел бы пойти на верхний этаж, – тогда раздрызганные винтовые ступени, обычные в подобных парижских домах, фасад у которых не шире собственного дверного проема, скоса лепящегося к тесно приближенным порталам соседских дверей, привели бы его в гостиную, украшавшуюся уже не пошлой кустарщиной, как в нижней лавке, а обстановкой совершенно другого сорта: о трех ногах, и с орлиными головами на этих ногах, ампирным столиком; консолью на крылатом сфинксе; шкафом семнадцатого века; стеллажом красного дерева, приютившим сотню книг в замечательном сафьяне; секретером, называемым «американским», под роликовой крышкой и с кучей ящичков. Перейди он из этой гостиной в спальню, его взору открылась бы прероскошная кровать под балдахином. Рядом на простых стеллажах размещались сервиз севрского фарфора, турецкий кальян, алебастровая чаша, хрустальная ваза. На дальней стене виднелись живописные панно на мифологические сюжеты. Это были два больших холста с изображениями муз истории и комедии. Добавим, что по стенам там и тут был развешан марокканский текстиль и какие-то еще арабские одеяния из кашемира, рядом с пилигримской походной флягой. Еще там стоял старинный умывальник, нагруженный туалетными принадлежностями заботливой выд
Страница 9
лки. В общем, причудливый интерьер, полный редких и недешевых предметов, что, быть может, не свидетельствовало о продуманном и тонком вкусе собирателя, но, несомненно, выдавало его тягу к бравированию роскошью.Возвратившись в гостиную, посетитель увидел бы перед окном, через которое мог поступать только самый незначительный свет, потому что света было очень мало вообще в этом переулке, пишущего за столом в халате пожилого человека. То, что удалось бы разглядеть через плечо, мы и читаем сейчас. Время от времени Рассказчик будет сжато пересказывать куски дневника, чтобы Читатель не соскучивался.
Не ждите, что Рассказчик эффектно опознает сейчас же в пишущем известного… Рассказ только начат, и никого известного в нем еще не было. Рассказчику совершенно неведомо, кто этот непонятный текстописатель, и Рассказчик сам интересуется это узнать, как и вы, почтенная публика. Поэтому теперь всем нам предстоит доискиваться и разгадывать скрытые смыслы тех знаков, которые перо повествующего при нас накладывает на бумагу.
2. Кто я?
24 марта 1897 г.
Вовсе и не тянет меня начинать эти страницы, душу на них оголять по велению – проклятие! нет – по подсказке! окаянного немецкого еврея (австрийского вообще-то, но ведь это все равно). Меня – то есть кого? Кто это – «я»? Думаю, ответить можно, перечислив, что и кого любит человек. Так кого люблю «я»? Никаких людей любимых я бы назвать не мог. Люблю поесть. Это да. При одном упоминании «Серебряной башни» («Ля Тур д’Аржан») я весь дрожу. Если это любовь – то вот. Кого я ненавижу? Евреев, ответил бы с ходу. Но моя готовность раболепно потакать австрийскому доктору (а хоть бы и немецкому!) доказывает, что, в сущности говоря, я ничего не имею против растрепроклятых евреев. О евреях я знаю только то, чему научил меня дедушка. Евреи – народ до мозга костей безбожный. Евреи думают, что добро проявляет себя не на том, а на этом свете. Поэтому они желают этот наш белый свет захватить. Все мое отрочество омрачил этот жупел, евреи. Дедушка описывал прозорливые иудейские очи, лицемерием несказанным доводящие людей до посинения. Описывал их нечистые ухмылки, их раззявленные гиеньи пасти, зубы торчком, взоры тяжелые, развратные и скотские, носогубные складки подвижные, усугубляемые ядовитостью, и носы, крючковатые, наподобие клювов южных птиц… Что ж до глаз – о, их глаза! Лихорадочно вращаются в орбитах у евреев их зрачки цвета горелых гренков, знак заболевания печени, где накопилась вся их желчь за восемнадцать столетий. Вокруг зрачков – размякшая кожа нижних век, испещряемая тысячью морщин каждый год, и уже в двадцать лет иудей выглядит потасканным, почти старик. При ухмылке его напухшие веки прижмуриваются, оставляя еле проницаемую щель, и это примета лукавства, как расценивают некоторые, или же гримаса похоти, как утверждал мой дед. Когда я подрос и стал понимать больше, дед добавил еще одну подробность. Евреи, сказал он, мало того что спесивы, как испанцы, неотесаны, как хорваты, алчны, как левантинцы, неблагодарны, как мальтийцы, наглы, как цыгане, немыты, как англичане, сальны, как калмыки, надуты, как пруссаки, и злоязыки, как уроженцы Асти, они еще и прелюбострастники по причине безудержного приапизма, причиненного обрезанием, в чем великое несоответствие между их плюгавыми фигурами и громадностью пещерного тела внутри срамного их недокалеченного выроста.
Мне эти евреи вечно снились по ночам.
Благословение случаю, что я не сподобился наяву знакомиться с ними. Исключая однажды, в юности, ту потаскушку в туринском гетто. Но меж нами и двух-то слов, считай, сказано не было. Второй еврей в моей жизни – вот этот самый лекаришка, не то австрийский, не то немецкий. Я, откровенно говоря, не ощущаю разницы.
Немцев же я видал и даже делал с ними дела. Они – самая низкая ступень человеческого развития. Немец в среднем выделяет вдвое больше кала, чем француз. Гиперактивность его кишечной функции вредит работе мозга. Тем и объясняется их физиологическая второсортность. Во времена варварских орд пути германских полчищ, как правило, обрастали несоразмерными кучами фекалий. Да и в последующие столетия путник-француз понимал, что перешел за эльзасскую границу, чуть только он встречал из ряда вон выходящие габариты оставленных около дороги экскрементов. Мало того: немцам как нации свойствен повышенный бромгидроз (смердячий пот). Доказано, что немецкая урина содержит не менее двадцати процентов азота, в то время как у других народностей содержание азота в моче не превышает пятнадцати.
У немцев постоянно засоряется желудок из-за безудержного употребления пива и тех типичных свиных колбас, которые они поглощают. Поглядел я на них в свою мюнхенскую поездку. На протабаченные, как английский портовый склад, эти их кабаки… Ни дать ни взять пышные храмы, где вместо ладана сало и шпик. Туда они ходят парами, немецкие херры с их самками, и трясут на высоте пивными кружками (скорее, кадками), которые сгодились бы для водопоя слоновьих стад. И эти пары тварей трясут и чока
Страница 10
тся, и снюхиваются, как псы при случке, нос к носу над пеной, лакая с ликованием, и грязно и похабно надсаживаются гортанным хохотом в своем допотопном горлобесии. На щеках и на лицах их бликует масляный пот. Так лучились оливковым маслом тела атлетов в античных цирках.Это они себе заливают в глотки «Гейст». Вообще-то это слово значит спиритус, спиритуальность, а также духовность. Но в ихнем случае – дух пьяный и поганый, смолоду отупляющий немцев. Чем и объясняется, отчего по ту сторону Рейна никогда не бывало истинного искусства. Разве что несколько картинок с изображением непривлекательных людей и кое-какие стишата смертельной нудности. А уж их музыка! О чем там говорить? Не о трескучем же и замогильном Вагнере, забившем памороки нашим нынешним французам? Мне сказывали, что и у хваленого их Баха творения вовсе лишены гармонии, холодны, как зимние ночи. А уж симфонии, с которыми они носятся, сочиненные Бетховеном, прошу вас, увольте: что касается безвкусия, так это просто апофеоз.
Злоупотребление пивом лишает немцев способности хотя бы в малейшей мере почувствовать свою вульгарность. Наивысшее выражение их вульгарности – что они не стесняются собственной немецкости. Хвалятся чревоугодником Лютером, безнравственным монахом (он призывал жениться на монахинях?), и радуются, что он испаскудил Священное Писание, переведя его на немецкий язык. Кто-то сказал о них, только кто это был – не помню, что немцы дурят себя двумя главными европейскими наркотиками – алкоголем и христианством.
Тщеславятся своей глубиной. А вся-то глубина-то, что язык их мутен, не имеет ясности, как французский, и не выражает того, что полагалось бы сказать. И поэтому ни один германец сам не знает, что он хотел сказать и что сказал. Эта вязкость, по их мнению, – глубина. С немцами, как с женщинами, нельзя дойти до дна. К сожалению, их маловыразительный язык, в котором глаголы, пока читаешь, нервно выискиваешь глазами, потому что они никогда не бывают там, где им следовало бы быть, мне пришлось выучить по требованию деда в раннем отрочестве. Нечему удивляться. Дед все, что мог, обезьянничал с австрийцев. До чего я ненавидел этот паскудный язык, а с ним и иезуита, приходившего учить меня, немилосердно наказывая указкой по пальцам.
После того как Гобино написал о неравенстве человеческих рас, принято считать, что ругают инородцев те, кто провозглашает превосходство собственного племени. Мне такие предрассудки не сродни. С тех пор как я окончательно стал французом (наполовину быв им от рождения, по матери), я осознал, до чего мои новые соотечественники ленивы, кляузны, злопамятны, завистливы, самонадеянны до убежденности, будто всякий, кто не француз, – дикарь, и не способны выносить замечания. Но я и понял, каким образом охмурить француза, чтоб он признал недостатки французской нации. Достаточно при нем сказать, к примеру: «поляки знамениты таким-то безобразием», и, поскольку француз никогда не поступится первенством, он моментально возразит: «ну нет, у нас во Франции много хуже». А дальше как уж понесет своих родных французов, покуда не опамятуется и не скумекает, что это его таким манером одурачили.
Француз не поможет ближнему, даже когда ему это выгодно. Кто неучтивей французского трактирщика! Он с виду ненавидит посетителей (и на деле тоже) и желает, чтоб они провалились сквозь землю (на деле не вполне так, ибо француз еще и ужасно меркантилен). Ils grognent toujours. Они брюзжат. Попробуйте спросить о чем-то – выпучат губы: sais pas, moi, препохабно, будто газы выпустят.
Французы злы. Они убивают шутя. Они единственные, кто несколько лет подряд для потехи рубили головы друг другу. Счастье французов, что Наполеон поворотил их злобу на иноплеменников и всех погнал уничтожать Европу.
Они кичатся государством и хвалят его мощь, но сами заняты сотрясением устоев государства. Никто не перещеголяет французов в искусстве строительства баррикад по поводу и без повода, сплошь и рядом не зная зачем. Они выходят на улицы по призыву какой ни попадя наихудшей канальи. Француз не очень понимает, чего ему надо. Он знает только одно: то, что есть в наличии, не по нем. Чтоб выразить протест, француз поет.
Французы думают, что все на свете разговаривают по-французски. С десяток лет назад произошла история с одним таким Люка. Большого таланта был человек, три тысячи документов подделать сумел, и все на настоящей старой бумаге. Пройдоха выстригал чистые форзацы томов в Национальной библиотеке. Он навострился воспроизводить почерки, хотя и хуже, чем умею это делать я. И продал таких бумаг огромное количество за невообразимые цены этому недоумку Шалю… Серьезный математик, говорят, и член Академии наук, но, как мы видим, совершеннейший тютя. Не только Шаль, но и другие высокоученые академики приняли за чистую монету письма знаменитых личностей, Калигулы, Клеопатры и Цезаря, написанные по-французски! Равно как и переписку на французском языке между Паскалем, Ньютоном и Галилеем! А между тем даже школьникам известно, что в стари
Страница 11
у образованные люди переписывались на латыни. Ученые мужи, академические старцы не ведают, что у других народов в заводе были и иные языки, помимо их ненаглядного французского! Но из поддельных писем Паскаля вытекало, будто он открыл всемирное тяготение за двадцать лет до Ньютона: ну, и этого с походом хватило, чтобы обмишулить сорбоннцев, отуманенных патриотической спесью.Возможно, невежество развивается в них от скупости. Скупость – национальная чума, которую они зовут добродетелью и уточняют: «не скупость, а бережливость». Только во Франции могли посвятить целую комедию скупому. И не будем забывать также о папаше Гранде.
Скаредностью дышат их пыльные квартиры, где никогда не меняют обои, а тазики наследуются от прабабок. Корыстность и мелочность французов видна и по их деревянным закрученным лестницам с непрочными ступенями – во что бы то ни стало экономится пространство. Ежели привьют, как, случается, прививают черенок к дереву, к французам еврея (предположим, немецкого еврея), то получится именно то, что мы сейчас имеем в наличии. Получится Третья республика.
Я, конечно, сам стал французом. Но стал я им только из-за того, что итальянцем оставаться было нестерпимо. Пьемонтец по рождению, я явственно чувствовал, что я – карикатура на галла, но еще ограниченней, чем галлы. Пьемонтцы! От всякой новости пьемонтцы столбенеют. От неожиданностей цепенеют. Чтоб затащить их в Сицилийское королевство (тех немногих пьемонтцев, которые были в гарибальдийском войске), понадобились двое лигурийцев: энтузиаст Гарибальди и зануда Мадзини.
А уж то, что я выяснил в тот раз, когда меня послали в Палермо! Когда это было? Восстановить бы…
Только фанфарон Дюма любил италийские народы. Наверное, потому, что они превозносили его. Не то что французы. Французы прежде всего видели в нем мулата, а уж во вторую очередь – писателя. Нравился же Дюма неаполитанцам и сицилийцам, которые сами помеси, и не по оплошности гулящих родительниц, а по своей истории. Все они выродки от неверных оттоманцев, от немытых арабов и от вырожденцев-остроготов, унаследовавшие самое худшее от разношерстных прародителей: от сарацин нерадивость, от свевов свирепость, от греков безалаберность и крючкотворство. Впрочем, достаточно разок взглянуть на неаполитанских босяков, как они прилюдно напихиваются макаронами, вталкивая их грязными пальцами в хайло и обмазываясь прокисшим помидорным соусом. Я сам, по-моему, этого не видел, но мне рассказывали.
Итальянцы коварны, лживы, подлы, они предатели, предпочитают кинжалы честным дуэлям, предпочитают яды лекарствам, ускользчивы в переговорах и верны только одному принципу – принципу двурушничества, чему пример – бурбонские военачальники и как они повели себя при первом же появлении босяков из войска Гарибальди под командой пьемонтских генералов.
Все оттого, что итальянские военные сделаны из того же теста, что итальянские священники, – а именно священники, только они одни, и управляли Италией с тех пор, как этого дегенерата, последнего римского императора, оприходовали (сам подставил задницу) лихие варвары за то, что он дозволил христианству подорвать боевитость гордой нации.
Священники… Когда я соприкоснулся с ними? А в дедовом доме, думаю. Как сквозь туман, вспоминаю их скошенные взоры, испорченные зубы, нечистое дыхание и влажные от пота ладони, которыми они норовили погладить меня по головке. Вот гадость. Эти бездельники относятся к таким же опасным классам, как бродяги и воры. Тот, кто хочет стать священником или монахом, просто не хочет работать. Работать попам не приходится уж в самую силу их количества. Будь их, ну скажем, по одному на тысячу голов паствы, они бы не рассиживались по суткам за жирными каплунами. Среди самых никудышных из попов правительство отбирает глупейших и рукополагает их в епископы.
Святоши повсюду. Рождаешься – они тебя крестят. Идешь учиться – учат, если родители были ханжами и заслали тебя в религиозный интернат. И они же занимаются твоим причастием, катехизисом, конфирмацией. Священник в день свадьбы тебя учит, что ты должен делать с новобрачной в постели, а наутро требует исповеди, сколько же раз ты это сделал, чтоб самому повозбуждаться под прикрытием занавеси за решеткой. Попы стращают плотью, плотью, плотью, а сами неприкрыто, каждоденно встают с кровосмесительного ложа, и, даже руки не помыв, идут себе кушать и пить своего Господа и, соответственно, потом идут себе Господом мочиться и испражняться.
Поминутно бубнят, будто царствие их – не от мира сего, и, однако, силятся наложить лапу на все, чем только можно поживиться. На свете не будет достигнуто совершенство, покуда последняя церковь не рухнет на голову последнего попа и мир не освободится от поповского семени.
От коммунистов пошло выражение «религия – опиум народов». Это правильно, поскольку религия сдерживает искушения подданных. Кабы не религия, было бы вдвое больше народу на баррикадах. А так во время Коммуны восставшим явно недостало людей, и всех удалось перехлопать без проволоче
Страница 12
. После того как я узнал от австрияка-врача о пользе одного колумбийского снадобья, я подумал: религия – это и кокаин народов, потому что религия подстрекает народы к военным действиям, к резне, истреблению неверных, она подстрекает и христиан, и мусульман, и прочих идолопоклонников. Тех негров из Африки, которые прежде ограничивались междоусобными кровопролитиями, миссионеры обратили в христианство и понабрали себе из негров-христиан колониальных солдат, идеальных для геройской смерти на передовой и для изнасилования белых женщин при взятии городов. Никогда люди с таким энтузиазмом и полнотою не творят зло, как когда они его творят во имя религии.Хуже остальных, ясно, иезуиты. Вроде бы я им когда-то устроил веселую жизнь… А может, это они мне подгадили, не удается припомнить… Или, кто знает, это могли быть кровные братья иезуитов, масоны. Масоны то же самое, что иезуиты, только бестолковее. У иезуитов по крайней мере только одна богословская теория, и они умеют ею пользоваться, а масоны таскаются со множеством теорий, но без царя в голове. О масонах мне рассказывал покойный дедушка. Купно с евреями они отрубили голову королю. И пробудили к жизни карбонариев, то есть совсем дураковатых масонов, попадавших в старое время под расстрел, а в новое время – на гильотину за то, что не умели бомбу собрать по-человечески. Потом они становились социалистами, коммунистами и коммунарами. Всех их ставить к стенке. Правильно делал Тьер.
Масоны и иезуиты… Иезуиты – масоны в юбках.
Ненавижу юбки за то немногое, что мне о них известно. Я много лет проненавидел кабаки с девицами (brasseries ? femmes), куда сходятся презренные личности самого пакостного разбора. Они опасней явных борделей. Открытию борделей, как правило, противостоят жители соседних домов. А кабаки могут открываться где угодно: туда ведь ходят закусить и выпить. Но закусывают на первом этаже, а на втором и третьем греховодничают. У каждого кабака свой образец. Красотки наряжены на особый фасон. У нас в пивной разносят выпивку немецкие кельнерши, а рядом с Дворцом правосудия девки одеты в мантии, как адвокаты. По одним только названиям все понятно. «У Вертихвосток»! «У Марокканок»! «Четырнадцать ягодиц», неподалеку от Сорбонны! Почти всегда содержатели кабаков – немцы. Вот так и подрывают французскую мораль. Меж пятым и шестым арондисманами подобных притонов не менее шестидесяти. А вообще по Парижу их наберется сотни с две. И вхожи туда зеленые юноши, они идут сперва из любопытства, а после по привычке, пока не схватят трепака, если не худшую какую-нибудь гадость. Злачные места соседствуют с учебными заведениями, стыдоба! После занятий ученики толпятся около дверей и смотрят на милашек. Я лично тоже прихожу. Но я-то прихожу пропустить рюмочку. И смотрю через дверь на этих молокососов около двери, которые с улицы, через дверь, заглядывают туда, где сижу я. Не только молокососы. Там можно набираться сведений и о привычках, и о сношениях всяких взрослых. А сведения могут пригодиться, и пригождаются, каждое в свой черед.
Еще интересно подглядывать, что у них за сутенеры за столами. Одни – мужья, из тех, что кормятся за счет жениных красот. Прилично одетые, они сидят, курят и перекидываются в картишки. Хозяин и девчонки зовут их «рогачи». А в Латинском квартале на подобных ролях в основном студенты-недоучки. Постоянно трясутся, как бы их не обдурили при расчетах, и хватаются за ножи. Самые спокойные – разбойники и убийцы. Они заходят ненадолго, потому что заняты своими убийствами и разбоями. А когда заходят, то понятно, что девчонки шутки шутить с ними не станут, если не хотят назавтра бултыхаться в грязноватой водичке в Бьевре.
Есть и моральные уроды. Заманивают извращенцев и извращенок для тошнотного разврата, зазывают их у Пале-Рояля или на Елисейских полях условными знаками. А их дружки, переодевшись полицейскими, готовятся нагрянуть в номер в самую сладкую минуту и пригрозить бесштанному клиенту немедленным арестом. На что, естественно, тот вытащит в ответ пачечку ассигнаций.
Я захожу в лупанарии с опаской, понимая, что это риск. Когда клиент по виду денежный, содержатель кивает. Одна из распутниц подсаживается и постепенно подзывает к столу остальных товарок, и вместе пьют и жрут самые дорогие яства (однако, бережась от опьянения, заказывают себе наливки анисовые, смородинные – подкрашенную водичку, которую клиент оплатит нешуточными деньгами). Стараются растормошить клиента и на карточные игры. Конечно, перемигиваются… Ты в проигрыше… И тогда требуют платить за всех кто там ни на есть – за девок, трактирщика и трактирщицу. Стараешься уклониться – так уговаривают играть не на деньги, а в раздевалочку. На каждую проигранную ставку девчонка снимет что-нибудь из одежды. И с каждым спущенным кружевцом оголяются мерзостные молочные телеса, наливные груди и темные подмышки, пряный пот от которых разит мне прямо в душу.
Я ни разу не ходил на верхний этаж. Кто-то мне говорил: женщины – замена одинокого рукоблудия, только с ними
Страница 13
нужно больше фантазии. Возвращаюсь к себе и вижу женщин по ночам. Я же тоже не железный. Они сами меня раздразнивают.В книге доктора Тиссо я читал: женщины вредны даже на расстоянии. Неизвестно, одно ли и то же – жизненные ликворы и семенной сок. Но бесспорно, что у этих двух текучих сред наблюдается подобие. И после долгих ночных поллюций не единственно силы слабеют, но и тело худеет, бледнеет лицо, рассыпается память, туманится зрение, охрипает голос, во сне витают тревожащие видения, ощущается боль в глазах, на лице проступают красные пятна. Люди начинают харкать сгустками, мучиться сердцебиениями, удушьем, обмороками, у иных появляется понос или зловонные извержения. В результате, как правило, слепота.
Допускаю, что все это преувеличено. По молодому возрасту у меня наблюдались угри, но, наверное, это вообще свойственно отрочеству, а может, дело в том, что все подростки балуются одними и теми же способами, и злоупотребляют, и предаются этому день и ночь. Так вот, я умею дозировать радости. Сны у меня тревожны только после питейного заведения. И мне не случается, как другим, ощущать подъем от одного лишь силуэта идущей женщины на улице. Мой труд отвлекает меня от порока.
Но зачем философствовать, если цель – восстанавливать события? Оттого, что, надо думать, мои цели – не только выяснить, чем я занимался до вчерашнего дня, но и определить, что у меня на душе. Конечно, если в принципе душа существует. Есть ведь мнение, что существенно только то, что имеет выход на внешнее действие. Не согласен! Коль скоро я кого-нибудь ненавижу и коль скоро я в себе эту вражду вынашиваю, значит, дьявольщина, я вынашиваю вражду внутри в себе! То есть кое-что внутри у меня есть. Как сказал философ, как это? Odi ergo sum.
Вот только что было посещение. Позвонили в двери снизу. Ужаснувшись, не явился ли кто-то глупый до такого невероятия, чтобы хотеть у меня что-нибудь купить, я открыл. Нет, этот был опытный, он сразу сказал, что его посылает Тиссо. Отчего-то я использую именно этот пароль. Ему требовалось собственноручное завещание от имени некоего Бонфуа в пользу Гийо (а Гийо, держу пари, это он сам). Принес бумагу, которой пользуется или же пользовался Бонфуа, принес, конечно, образчик почерка. Я пригласил Гийо подняться ко мне в кабинет, подобрал перышко и подходящие чернила и без черновика сообразил ему документ. Вне всякой критики. Этот Гийо, по всему судя, знал мой тариф, он отсчитал правильную сумму, соответствующую количеству наследства.
Ну, так ли уж плохо мое ремесло? Приятно выкликнуть из небытия юридически совершенный документ, создать письмо, неотличимое от подлинного, произвести признание, бросающее тень на признающегося, сфабриковать бумагу, несущую кому-нибудь погибель. В награду я пообещал себе «Кафе Англэ».
Ноздри хранят незабываемое воспоминание о тех яствах, но мне мерещится, будто целые века я не обонял ароматы их ассортимента: суфле по-королевски, филированная рыба соль на венецианский манер, нарезка из тюрбо в тертых сухариках, седло барашка с бретонским пюре. Забыл сказать про вводные блюда! Хорошо, там у них вводные блюда – пулярдка по-португальски, теплый перепелиный паштет, омары по-парижски, а вот возьму и закажу даже все вместе. Что же до блюда основного, пусть это будут утята по-руански или ортоланчики на канапе. Гарниры – баклажаны в испанской подливке, побеги спаржи, горшочки принцесс… Надо бы решить с вином. Предположим, Шато-Марго. Или Шато-Латур. Или Шато-Лафит. В зависимости от года. На сладкое, конечно, бомба глясе.
Кулинария меня манит куда сильнее, нежели радости пола. Это, по-видимому, умудрились насадить во мне попы.
Как-то я не в состоянии разглядеть былое. Что-то загораживает. Словно облако в мозгу у меня. Отчего вдруг всплыли сейчас в моей памяти вылазки в «Бичерин» под личиною падре Бергамаски? Я о падре Бергамаски и думать забыл. Кто он? Хочется водить пером, повинуясь единственно инстинкту. Если верить австрийскому доктору, таким путем я дойду до болевого момента в сознании. И тогда пойму, отчего у меня вытеснилось из памяти такое множество вещей.
Вчера, если точно был понедельник, точно март и точно двадцать второе, то я пробудился с абсолютно четким знанием того, кто я есть: я капитан Симонини, шестидесяти семи лет, в замечательной форме, чуточку в теле, но именно настолько, чтобы считаться, как говорят, представительным мужчиной. В капитаны произведен во Франции в честь памяти деда и в награду за определенные неафишируемые заслуги (состоял в гарибальдийской «Тысяче»). Во Франции, где к Гарибальди относятся положительней, чем в Италии, подобный послужной список котируется.
Симоне Симонини. Родился я в Турине, отец мой туринец, мать моя была француженка, точнее, уроженка Савойи, но во время ее рождения Савойя была захвачена французами.
Я нежился в кровати и раздумывался. Учитывая сложности между мною и русскими (хотя что там у меня вышло с русскими?..), лучше не соваться в любимые рестораны. Я могу сам себе сготовить что-нибудь.
Страница 14
отратить час или два на изысканное блюдо – ни в малой степени не в труд. Ну, скажем, телячьи ребрышки «Фуайо»: толсто нарезанное мясо, не менее четырех сантиметров, я сделаю двойную порцию… Две среднего размера луковицы, пятьдесят граммов мякиша, семьдесят пять граммов натертого сыра грюйер, пятьдесят граммов сливочного масла. Мякиш раскрошить, перемешать с тертым сыром, натереть на терке лук, растопить сорок граммов масла в небольшом сотейнике, одновременно на сковородке подрумянить тертый лук на оставшемся масле, уложить в судок на дно половину лука, на него мясо, сдобрив солью и перцем, и весь остаток лука сверху. Поверх же лука – сыр, перемешанный с мякишем, под него залить масло. Из сыра руками слепить подобие купола. Побрызгать запеканку крепким бульоном и вином и продержать в печи около получаса, добавляя по надобности вино и бульон. На гарнир рекомендую цветную капусту. Такая готовка отнимает время, но и растягивает удовольствие от кухни на большие сроки. Готовить – само по себе означает предвкушать. Чем я и занимался, еще не успев встать утром с кровати. Глупцам потребна женщина в постели или мальчишка, чтоб разгонять одиночество. Глупцам, по-видимому, невдомек, что пускать слюни приятнее, чем вздымать плоть.В доме имелось все, что нужно, кроме мяса и грюйера. Мясо, будь это другой день недели, нетрудно было бы купить на пляс Мобер. Однако по понедельникам невесть с которой стати моберовский мясник закрыт. Я знаю другого, он дальше на двести метров, на бульваре Сен-Жермен. Не важно, прогуляться полезно.
Оделся. Перед выходом на улицу, перед зеркалом, над умывальным тазом, я налепил обычные черные бороду и усы. Надел парик. Аккуратно провел посередине пробор, примачивая волосы влажным гребнем.
Оделся я в редингот. В карман жилета заложил серебряные часы, развесил поперек живота цепочку. Когда я капитан на пенсии, мне нравится при разговоре вертеть в руках черепаховую табакерку с лакричными палочками, под крышкой которой проглядывается портрет уродливой, с достоинством одетой дамы: типичная «незабвенная усопшая». Посасываю палочки и перекатываю их во рту языком, что мне дает возможность разговаривать помедленнее. Собеседники вглядываются в рот и не вслушиваются в слова. Цель моя – производить впечатление человека самого дюжинного.
Выйдя, я усилием воли удержался от замирания перед кабаком, откуда даже ранними утрами доносятся вульгарные визги прелестниц. Хоть площадь Мобер уже не тот волчий угол, каким она была во времена моего вселения, тридцать пять лет назад, когда везде мельтешили перепродавцы табака, выковыренного из окурков. Крупно порезанный, из окурков сигар и из выбитых трубок табак стоил за фунт по франку и двадцати сантимов. А то, что добывалось из сигаретных окурков, стоило от франка пятидесяти до франка шестидесяти за фунт… Невелика коммерция, и, знать, поэтому никто из шустрых шнырял, чьей выручки хватало только на питье в кабаке, не ведал, куда ему голову приклонить с приходом вечера. Там околачивались и сводники, лишь в третьем часу пополудни вылезавшие из-под перин, а прочую часть дня курившие прислонившись к стеночке, как тихие пенсионеры, с тем чтобы преобразиться в свирепых волкодавов после того, как стемнеет и начнется работа. Слонялись унылые щипачи, с горя запускавшие вороватые ручонки друг другу в карманы, потому что ни один нормальный горожанин не шел по доброй воле на эту прожженную площадь. Я бы мог быть для них лучшей добычей, не чекань я шаги по-военному, с грозным покачиванием трости – да, кроме того, местные карманники были со мною знакомы, здоровались, капитану почтение, наверно, думали, что я каким-то боком причастен к их колготне, а, как известно, рука руку моет… Ходили там и блудницы с обвисшими статями, которые, будь привлекательнее, подвизались бы в brasseries ? femmes, но, потрепанные, они могли только предлагать себя старьевщикам, мазурикам и окурочным лотошникам. Завидев такого, как я, чистого господина, в выколоченном цилиндре, они, неровен час, норовили отважиться на прикасания и даже подсунуть свою под мою руку; их близость пахла бы отвратительным грошовым парфюмом, сливающимся с запахом их пота, и это было бы такое невыносимое амбре (не хотел бы я потом снова увидеть ту или иную во сне!), что при приближении подобной пропащей я лупил палкой по воздуху, выгораживал около себя пространство защищенное и недоступное. И они понимали с ходу. Их сестра привыкла, чтобы ею командовали, и палку уважает.
В толпе в былое время густо лавировали еще и соглядатаи из полицейской префектуры, подыскивая себе в том людском месиве «наседок», то есть осведомителей, подслушивая существенные сведения о замыслах банд, об их намерениях и соглашениях, особенно когда кто-то шептал другому не очень тихо, надеясь, что слова потонут в оглушительном гомоне. Но лично я с первого же взгляда отличаю по внешнему виду шпика: он страсть до чего похож на преступника. А честные воры совершенно не похожи на воров. Так что шпиков издалека видать.
По этой площади теперь курси
Страница 15
уют трамваи. Нет уже чувства, будто не выходишь из квартиры. Поубавилось занятных субъектов. Хотя, если уметь отличать, по-прежнему полезные людишки там обретаются, у неприметных углов, у двери в кафетерию «Мэтр Альбер» или в соседних закоулистых улочках. Но мы же все знаем: Париж стал не тот. С любого угла как ни глянешь, торчит и колет глаза нелепая карандашная точилка, Tour Eiffel.Довольно. Я не сентиментален. Осталось немало других полезнейших мест, где можно наудить чего требуется. Вчера, например, мне требовались мясо и сыр. Сыр удалось купить на площади. Я двинулся дальше и увидел, что открыта лавка мясника. – Работаете в понедельник? – спросил я, зайдя. – Сегодня же вторник, капитан, – отвечал тот, осклабясь.
Я запнулся и извинился. Старею, говорю, засбоила память. Мясник ухмыльнулся: это ли старость, вы-де, ежели взглянуть, вообще мальчик, знали бы, у скольких в голове мешается по утрам, особенно с похмелья. Я выбрал мясо, уплатил и даже не поторговался. А ведь только этим и держу поставщиков в страхе…
Так, гадая, какой же сегодня день, я пришел домой. Как обычно, следовало снять бороду и усы. Я зашел в спальню. Тут-то я и изумился. С крючка на вешалке свисала сутана неподдельно священнослужительского вида. А рядом на комоде покоился каштановый, со светло-рыжим отливом густой парик.
Что за проходимец забрался ко мне в спальню? Подумав так, я моментально смекнул, что и сам загримирован. Значит, я переодеваюсь по очереди то в почтенного капитана, то в духовника? Может, у меня вытерто из сознания то, что относится к той, второй натуре? А может быть, по некоторой причине (ну, скажем, скрываясь от ареста) я клею бороду с усами и в то же время предоставляю кров кому-то переодевающемуся в аббата? Но если псевдоаббат (будь он подлинным, парик не надевал бы) живет со мной, то где он спит? Ведь в комнате только одна кровать? А может, аббат здесь не живет, а только что сюда явился, провел вчерашний день, зачем-то избавился от реквизита и в новом облике отбыл бог знает куда и бог знает зачем?
Необъяснимая пустота в голове. Как будто я видел нечто, что надлежало бы помнить, но я не помнил. Вернее, помнил не я. За меня помнил кто-то другой. Думаю, что «за меня помнил» – самое точное выражение. Я ощущал себя кем-то иным, кто смотрит на меня со стороны. Кто-то смотрел со стороны на Симонини, который вдруг понял, что не до конца понимает, кто он есть.
Спокойствие, разберемся, сказал я себе. Тот, кто под видом старьевщика подделывает документы и живет в непрезентабельном квартале Парижа, вполне способен приютить знакомого, замешанного в определенные непохвальные махинации. Хотя то, что я, приютив, забыл – кого, когда и зачем, – вот это, по совести говоря, меня совершенно не радует.
Меня тянуло оглядеться. Собственный дом казался чужим и чуждым. Повсюду сюрпризы. Я стал осматривать квартиру как чужую. После кухни направо по коридору была моя спальня. Налево – зала с обычной меблировкой. Я выдвинул из письменного стола ящики. В них были принадлежности моего ремесла. Перья, бутылочки с разными чернилами, листы и белой и состаренной бумаги разных времен и форматов. На стеллажах, помимо книг, имелись коробки, где содержались мои документы, и старая ореховая шкатулка. Я силился припомнить, для какой цели эта шкатулка употребляется. Но тут позвонили снизу. Спускаясь, я готовился прогнать любого надоедалу. Ан нет, старуха, и вроде бы знакомая. Через стекло она прошамкала: «Я от Тиссо». Поэтому пришлось ей открыть. Не знаю, отчего вообще я выбрал паролем этого «Тиссо». Старуха вошла и развернула прижимаемый к груди сверток. В нем было десятка с два просфор.
– Аббат Далла Пиккола говорил, что вы интересуетесь. Я с удивлением услышал, что отвечаю «да-да». Затем я спросил:
– Почем?
– По десяти франков, – ответствовала старушонка.
– Вы, наверно, не в себе, – произнес я по торгашеской привычке.
– Это вы не в себе, если служите черные мессы. Думаете, легко обегать за три дня двадцать богослужений, причаститься, и постараться не обслюнить товар, и в молитвенной позе на коленях, прикрывая лицо руками, аккуратно выплюнуть в платок, так, чтоб ни священник, ни соседи не заподозрили? Не говоря уж об осквернении святыни и о том, что теперь мне дорога в ад. Так что, ежели желаете, двести франков, а если нет, я иду к аббату Буллану.
– Аббат Буллан умер, по всему видать, вы давно не ходите за просфорами, – автоматически ответил я. Затем я сказал себе, что при такой сумятице, какая у меня в голове сейчас, предпочтительней действовать по наитию и не сильно умничать.
– Ладно уж, я возьму, – сказал я и заплатил. И припомнил, опять же по наитию, что припрятывать их надлежит именно в ту шкатулку, что на полке в кабинете. А потом – ждать ценителя. Работа как работа, не хуже прочих.
В общем, все казалось мне заурядным, все было привычно. И в то же самое время вокруг меня витало нечто зловещее, ускользающее и необъяснимое.
Я поднялся с просфорами в кабинет, запрятал их в тайник и обнаружил, чт
Страница 16
за драпри в глубине – потайная дверь. Открыл, соображая: ноги понесут меня в темный коридор, до того непроглядный, что и фонарь не помешал бы. Он походил, тот коридор, на склад театральной бутафории или на кладовую тамплиерского тряпичника. По стенам развешаны были самые разные костюмы: крестьянский, карбонарский, посыльничий, побирушеский. Рядом – солдатский китель и форменные брюки. И тут же соответствующие парики, красовавшиеся с расстановкой на полке. Их была нахлобучена добрая дюжина на деревянные болваны. Именно таковы уборные комедиантов, уставленные белилами и румянами, заваленные карандашами черными и синими, и кроличьими лапками, и пуховками, и щеточками, и кисточками.Коридор заворачивал за угол, в конце была видна на просвет другая дверь, а за дверью оказалась комната, освещенная ярче моих. Свет туда поступал определенно с улицы, а не с подслеповатого Моберова тупика. Подойдя к окну, я удостоверился, что оно выходит на улицу Мэтра Альбера.
Из комнаты на улицу спускалась лесенка. Больше там ничего не было. Вот и вся квартира, кабинет и спальня разом: мрачноватая мебель, стол, аналой, кровать. Около выхода – кухонька, на лестнице закуток, в нем умывальник.
Конечно, это обиталище священника. Причем с которым я приятельствую – не случайно же наши квартиры имеют общий коридор. Но хоть и брезжило во мне какое-то воспоминание, я был так неподвижен, как будто впервые попал в эту отдельную комнату.
Там на столе лежала стопка писем с конвертами. Все адресованы «Достопочтеннейшему аббату Далла Пиккола». И тут же лежали листы, исписанные тонким кудреватым, как женский, почерком, совершенно непохожим на мой. Наброски несущественных писем. Благодарности за присланные подарки. Подтверждения встреч. Самое верхнее, однако, имело довольно неряшливый вид: записи для себя, мысли для обдумывания. Я с трудом разобрал начало записей:
Все мне кажется невсамделишным. Будто кто-то другой за мною подсматривает. Записывать – восстанавливать. Устанавливать, как и что было.
Сегодня 22 марта.
Где сутана с париком?
Что я делал вчера? В голове туман.
Не мог вспомнить, куда ведет дверь из комнаты.
Обнаружил коридор (впервые увидел?). В коридоре костюмы, парики, грим и гуммозы, реквизитика актеров.
На крючке в коридоре отличная сутана. На полке я нашел прекрасный парик и кустистые брови. Наложил желтый грим, чуть подрозовил скулы, получилось то, что я считаю за «я». Бледный, экзальтированный. Аскетичный.
Это я. То есть я – это кто?
Я точно знаю: я – аббат Далла Пиккола. То есть миру я известен как аббат Далла Пиккола. Но конечно, я не аббат, потому что, чтобы стать аббатом, я кладу грим.
Куда ведет коридор? Боюсь идти до конца.
Перечесть эти записи. Если то, что записывалось, будет записано, значит, было на самом деле. Доверять только записям, документам.
Кто подлил мне в питье дурман? Буллан? С него станется. Или иезуиты?
Или же франкмасоны? Что у меня общего с франкмасонами?
Евреи! Вот кто подлил.
Я не в безопасности тут. Кто-то может забраться ко мне ночью и украсть мои костюмы. Даже хуже того, подглядеть мои записи. Кто-то рыщет по Парижу, выдавая себя за аббата Далла Пиккола.
Нужно мне лететь в Отей. Может быть, Диана знает. Кто это – Диана?
Записи аббата Далла Пиккола обрывались тут. Удивительно, что он не унес с собой столь компрометирующий документ. Это было доказательство, в каком смятении находился аббат. На этом кончалось все, что я мог знать об аббате.
Я возвратился в квартиру, выходившую на тупик Мобер, и уселся за стол. Каким образом жизнь аббата Далла Пиккола перекликивалась с моею?
Разумеется, в первую очередь напрашивалось объяснение: аббат Далла Пиккола и я – одно. Если принять эту гипотезу, все становилось на места, в том числе соединенные квартиры. Тогда, выходит, я вернулся переодетым в Далла Пиккола в квартиру Симонини, снял и сутану и парик и улегся спать. Но кое-что мешало принять эту гипотезу… Если Симонини – это Далла Пиккола, почему мне ничего не известно о Далла Пиккола? Почему я не аббат Далла Пиккола, который ничего не знает о Симонини? Почему, более того, мысли и чувства Далла Пиккола я узнаю лишь после чтения его помет? Если Далла Пиккола – это я, мне бы сейчас полагалось быть в Отее, в том доме, о котором аббат, похоже, знает все, а я (я – Симонини) не знаю ничего. И кто такая Диана?
Единственное, может быть… Если я – частично Симонини, не помнящий о Далла Пиккола, и я же частично Далла Пиккола, не помнящий о Симонини… Это не так уж невероятно. От кого я слыхал о случаях раздвоения личности? Вроде это наблюдалось у Дианы? Но кто такая Диана? Я сказал себе: будем действовать по порядку. Я точно знаю, что веду тетрадь со списками дел. Мои записи на ближайшее время такие:
21 марта месса
22 марта Таксиль
23 марта Гийо – завещание Бонфуа
24 марта к Дрюмону (?)
С чего я должен был двадцать первого идти на мессу – не знаю. Непохоже, чтобы я был верующим. Верующий верит во что-то. Верю ли я? Навряд ли
Страница 17
Следовательно, я неверующий. Это по логике. Оставим на время. Бывает, что на мессу нужно пойти по множеству разных причин. И вера в подобных случаях ни при чем. Но вот в одном обстоятельстве сомневаться никак невозможно. Это в том, что я думал, будто был понедельник, а был вторник. Не 22-е, а 23-е марта. И действительно, приходил Гийо для составления завещания Бонфуа. Двадцать третьего. А я-то полагал, будто было двадцать второе. Как же я провел двадцать второе? Кто такой или что такое Таксиль? Относительно того, чтобы в четверг видаться с Дрюмоном, не могло быть и речи. Как я мог встречаться с кем-либо, если даже не знал, кто такой сам я? Надо бы пересидеть, пока все это в голове не утрясется. Дрюмон… Я себя уговаривал, что прекрасно знаю, кто такой Дрюмон. Но как только я усиливался припомнить, кто это, голову как будто окутывал пьяный дым. Попробуем порассуждать, сказал я себе. Во-первых: Далла Пиккола – это кто-то другой, кто по непонятным причинам нередко загуливает ко мне, а наши квартиры связаны коридором, более или менее тайным. Вечером 21 марта Далла Пиккола явился в мои комнаты, что выходят на тупик Мобер, снял с себя сутану (но для чего он ее снял?) и перешел спать в собственную квартиру, а на следующий день пробудился в беспамятстве. И в том же самом беспамятстве проснулся и я на следующее утро после Далла Пиккола. И все-таки: чем именно я занимался в понедельник 22 марта, перед тем как пробудился в беспамятстве утром двадцать третьего? И почему аббат Далла Пиккола снимал свою сутану в моей квартире? И в каком же он виде, сбросив сутану, шел к себе по коридору? И в котором часу? Вдруг напал на меня ужас – а не пролежал ли этот аббат первую часть ночи со мной в постели… Господи, женщины внушают, конечно, мне отвращение, но аббат – это ведь еще хуже. Я девственник, а не извращенец.Или все-таки я и Далла Пиккола – одно? Как-никак его сутана висела у меня в опочивальне. По идее, я мог вечером в день мессы (двадцать первого) возвратиться через тупик Мобер в обличье Далла Пиккола (если я ходил на какую-то мессу, то, вероятнее всего, под видом аббата). Возвратившись, избавился от парика и сутаны и перешел в апартамент аббата (позабыв, что сутана осталась у Симонини). На следующий день, в понедельник двадцать второго марта, пробудившись в обличье Далла Пиккола, не только не сумел обрести свою память, но и сутаны не нашел в изножье кровати. Продолжая быть аббатом Далла Пиккола, потерявшим память, натянул запасную сутану, висевшую в глубине коридора, и прекрасно мог бы, как планировал, сначала отправиться в Отей, а ближе к вечеру передумать, отбросить страх и вернуться все-таки в Париж в квартиру на Мобер. Там снять сутану и повесить ее на крюк в спальной комнате. А с утра, наново лишившись памяти, но уже став капитаном Симонини, провести вторник, воображая его себе как понедельник. В этом случае, старался я рассуждать, Далла Пиккола не держит в памяти событий 22 марта и обеспамятев проводит целый день, а на следующий, двадцать третьего, пробуждается как беспамятный Симонини. Это вовсе не удивительно, о подобном я уже слыхивал от… как зовут этого медика из той лечебницы, что в Венсенне?
Хотя нет, не получается. Я перечитал записи. Если бы все так и было, Симонини двадцать третьего утром должен был бы найти в своем спальном помещении не одну, а две сутаны. Ту, которую он снял вечером двадцать первого, и ту, которую он снял вечером двадцать второго. А нашел только одну.
Ох, да что за глупости. Далла Пиккола вернулся из Отея вечером двадцать второго на улицу Мэтра Альбера, снял сутану в той квартире, а потом перешел в квартиру на Моберовом тупике и улегся там спать до самого следующего утра. До утра двадцать третьего числа. Просыпаясь, он стал капитаном Симонини и увидел на крючке на вешалке только одну сутану. Правда, будь это так, утром двадцать третьего числа, придя в квартиру Далла Пиккола, я должен был бы найти у Далла Пиккола в комнате сутану, оставленную там вечером двадцать второго… Но может быть, Далла Пиккола пошел и повесил сутану на место в коридор, туда же, откуда взял? Пойду-ка проверю…
Я вышел в коридор с фонарем и при этом сотрясался от страха. Если Далла Пиккола – это не я, говорил я себе, то не исключается, что он сейчас идет навстречу с другого конца коридора с таким же точно фонарем в руке. Слава небесам, ничего этого не было. На крючке в коридоре висела сутана.
И все-таки, и все-таки. Если Далла Пиккола вернулся из Отея и, повесив сутану, прошел по всему коридору вплоть до моей квартиры и улегся, ничтоже сумняшеся, почивать в мою кровать, это могло произойти лишь только при условии, что он обо мне имел понятие и понимал, что у меня он может располагаться как у себя дома, ибо он – это я и есть. То есть Далла Пиккола укладывался в кровать, понимая, что он Симонини. В то время как Симонини на следующее утро, проснувшись, вовсе не знал, что он – Далла Пиккола. Другими словами, Далла Пиккола потерял память, потом снова обрел ее, а своим беспамятством на следующее утро одарил
Страница 18
апитана Симонини.Беспамятство… Это значит «противоположность памятливости»… Это слово внезапно открыло передо мной будто бы просвет в тумане. Что-то давно позабытое. Был ведь у меня разговор о беспамятных! Разговор был в «Маньи». Примерно около десятка лет назад. Собеседниками были я, Буррю и Бюро, Дю Морье и австрийский тот самый доктор.
3. В «Маньи»
25 марта 1897 г., на заре
Вообще-то я ценитель хорошей кухни, а в ресторане «Маньи» на улице Контрэскарпа Дофина, как мне помнится, плата была не больше десяти франков с человека. Так вот – по цене была и готовка. Но все же нельзя ведь каждый день посещать «Фуайо». В минувшие времена многие нарочно ходили в «Маньи», чтобы поглазеть изблизи на таких знаменитостей, как Готье и Флобер. А еще до того ходили любоваться на чахоточного пианиста, полячишку, жившего на содержании у бабы в штанах. Я однажды тоже глянул и предпочел уйти немедленно. Артистические личности даже издали – гадкая картина, то и дело озираются, чтоб убедиться, опознали ли мы их. Позднее «великие» покинули «Маньи» и переместились в «Бребан-Вашетт», что на Рыбном бульваре, где кормили лучше и платить надо было больше. По всему видно, что carmina dant panem. Песни дают хлеб. Так что в «Маньи», можно сказать, очистился воздух. И я стал охотно бывать у них с начала восьмидесятых.
Я заметил, что туда нередко ходят и ученые, такие как знаменитый химик Бертло и врачи из больницы Сальпетриер. Она не вовсе рядом расположена, больница, но, думаю, врачам приятней пройти через Латинский квартал и пообедать в приличном месте, нежели тыкаться в скверные харчевни, где столуются родственники пациентов. Мне интересно слушать их разговоры, врачей. Они всегда обсуждают чьи-нибудь слабости.
В «Маньи» стоит гам. Все, перекрикивая соседей, кричат, и если хорошо настраивать уши, всегда удается словить любопытную беседу. Не обязательно заранее намечать себе, что именно ты хочешь услышать. Все на свете, даже самое незначительное, может обернуться выгодой. Важно знать о других то, что они не думают, что ты знаешь.
Литераторы и художники сбивались за общие столы, а люди образованные ужинали в одиночестве. В одиночестве и я. Тем не менее, отужинав несколько раз бок о бок со мной в полном молчании, они обычно созревали для знакомства. Первым пошел на сближение доктор Дю Морье. Наиотвратнейший тип. Просто недоумеваешь, как подобный психиатр (а он по профессии психиатр!) полагает снискать доверие пациентов при таком несимпатичном лице. Зависть и пагуба отпечатаны на нем. Это лицо пасынка. И точно, он заведовал очень маленькой клиникой для нервнобольных в Венсенне и понимал превосходно, что его лечебное заведение никогда не принесет ни той славы, ни тех доходов, что лечебница более известного доктора Бланша. Даром что Дю Морье саркастически кривился, информируя меня, что-де тридцать лет тому назад в Бланшевой лечебнице некто по имени Нерваль (по его словам, небездарный поэт) получил такое медицинское вспоможение, что и вообще покончил с собой.
Были и еще сотрапезники, с которыми я сумел наладить отношения: медики Буррю и Бюро, вроде близнецов, одетые в черное, сходного покроя, с черненькими усиками и бритыми подбородками. И с несвежими воротничками, что неотвратимо, поскольку в Париж оба они попадали только наездами, состояли при медицинской школе в Рошфоре и в столице проводили только несколько рабочих дней в месяц для участия в экспериментах Шарко.
– То есть как порея нет? – выкрикнул однажды с гневом Буррю. И Бюро, за ним, тем же тоном:
– Нет порея, вы хотите сказать? Половой все извинялся. Я вступил с соседнего столика:
– Но зато пастернаки у них превосходные. Лично я предпочитаю. – И с улыбкой промурлыкал: – Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, сельдерея с чесноком, а индея с петухом… Сотрапезники рассмеялись и заказали по моему совету тушеный пастернак. От того и повелась наша дружеская привычка, на эту пару дней в месяц.
– Видите ли, дорогой Симонини, – рассказывал Буррю, – доктор Шарко занимается истерией. Истерия – форма невроза, проявляющегося в психомоторных, сенсорных и вегетативных нарушениях. В прошлом она считалась сугубо женским феноменом, осложнением от расстройства функции матки. Но Шарко высказал догадку, что истерические проявления равно присущи пациентам обоих полов и могут эволюционировать в паралич, эпилепсию, слепоту и глухоту, нарушения дыхания, речи и глотательного рефлекса.
– Коллега, – вмешался Бюро, – еще не сказал вам, что Шарко изобрел также терапию, излечивающую эти симптомы.
– Я как раз собирался, – раздраженно парировал Буррю. – Шарко разработал лечение гипнозом. Оно до вчерашнего дня считалось уделом шарлатанов, ну, Месмера и компании. Под действием гипноза пациенты должны восстанавливать в памяти травматические эпизоды, приведшие к возникновению истерии, и через их осознание – выздоравливать.
– И выздоравливают?
– В том и закавыка, капитан Симонини, – ответил мне доктор Буррю. – По нашим понятиям, то, что д
Страница 19
лается в клинике Сальпетриер, больше походит на балаган, нежели на психиатрическую больницу. То есть я хочу сказать… Я не ставлю под сомнение квалификацию доктора Шарко как безошибочного диагноста…– Мы не ставим под сомнение, – подтвердил Бюро. – Но сама по себе эта техника гипноза… Буррю и Бюро объяснили мне различные способы приведения пациента в гипнотический транс. От открыто шарлатанских, применявшихся аббатом Фариа (я насторожился, услышав фамилию, напомнившую мне героя Дюма, но потом сказал себе: конечно, ведь Дюма, как известно, имена и детали выискивал в газетах…), до кардинально новаторской системы доктора Брайда.
– В наше время, – рассказывал Бюро, – лучшие магнетизаторы используют самые простые приемы.
– Они же самые действенные, – поддакивал Буррю. – Перед глазами у больного мерно качают медаль или ключ, он пристально смотрит. Через одну, самое большее три минуты зрачки наблюдаемого начинают дергаться, пульс разреженный, глаза полузакрыты, лицо расслаблено. Этот сон может длиться до двадцати минут.
– Сказать еще, – добавлял Бюро, – что успех этого метода зависит от подопытного. Магнетизация сводится не к посылу таинственных флюидов, как утверждал шарлатан Месмер, а к самовнушению. Индийские дервиши получают аналогичный результат, рассматривая кончик носа. А афонские монахи – свой пуп.
– Мы не абсолютизируем перспективы такой аутосуггестии, – продолжал Бюро, – хотя на практике мы в основном применяем и проверяем догадки Шарко, датируемые еще тем временем, когда он не был привержен гипнозу. Мы занимаемся раздвоением личности, при котором больной то думает, что он один человек, то считает, что он совсем другой, и ни одна из двух личностей не знает вторую. В прошлом году к нам привезли одного такого, Луи…
– Да, – встрял Буррю, – у него были паралич, бесчувственность, окоченение, мускульный спазм, гиперестезия, мутизм, раздражения кожи, кровотечения, кашель, рвота, эпилептические припадки, кататония, сомнамбулизм, пляска святого Витта, расстройства речи…
– Он и собакой считал себя, – захлебывался Бюро, – и паровозом. У него был бред преследования, сужение зрительного поля, вкусовые, обонятельные и зрительные галлюцинации, псевдотуберкулезная обструкция легких, головная боль, боль в желудке, запор, анорексия, булимия и летаргия, а также клептомания…
– Ну, в общем, – подвел итоги Буррю, – стандартный случай. Так мы с коллегой, не прибегая к гипнозу, приспособили стальную шину к правой руке пациента, и вот что мы увидели… Как волшебством переменился пациент! Паралич и нечувствительность исчезли из правой стороны его тела, дабы переместиться на левую.
– Мы просто увидели другого человека, – кивал Бюро, – и он не помнил ничего из того, что было с ним за несколько минут. В этом своем состоянии Луи являлся полным трезвенником. А в другом – почти склонялся к алкоголизму.
– Заметим, – не отставал Буррю, – что магнетическая сила вещества действует и на расстоянии. Например, при неведении испытуемого под его стул подставляли сосуд с алкогольсодержащей жидкостью. Приведенный в сомнамбулическое состояние испытуемый выказывал все симптомы опьянения.
– Вы, естественно, согласитесь, что наша методика не нарушает психическую натуру пациента, – завершил Бюро. – Гипноз лишает чувств, в то время как магнетизм не приводит к бурному шоку отдельного органа. Он попросту дает возрастающую нагрузку на нервные центры. Из разговора я понял, что эти двое недоумков, Буррю и Бюро, истязают незадачливых сумасшедших чем только в состоянии придумать, и чем хуже, тем лучше. В этом убеждении укрепил меня и доктор Дю Морье. Он слушал наш разговор от соседнего столика и по ходу дела качал головой.
– Друг мой, – поделился он, снова оказавшись через два дня за соседним столиком, – и Шарко, и эта парочка из Рошфора вместо того, чтоб разобрать жизненный опыт пациента и задуматься, каков же исток раздвоения личности, заботятся о том, чем воздействовать на больного – гипнотизмом или стальною шиной. А загадка в том, что переход от одной к другой личности у многих пациентов происходит спонтанно и непредсказуемо. Это позволяет думать о самогипнозе. Мне кажется, Шарко и его ученики недооценивают опыт доктора Азана и случай Фелиды.
Феномены еще недостаточно изученные. Расстройство памяти может наступать по причине недостаточного кровоснабжения не локализованного до сих пор участка коры головного мозга. То есть когда в наличии одномоментное сужение сосудов. В свою очередь, это может быть спровоцировано истерией. Да. Но где происходит недостаток кровоснабжения при потере памяти?
– То есть как где?
– Ну вот где? Разумеется, наш мозг состоит из пары полушарий. Может быть, у некоторых индивидов при мыслительном процессе задействуется одно полушарие полностью, а второе – не полностью? И потому нарушается воспоминание? У меня в клинике сейчас есть случай, удивительно сходный со случаем Фелиды. Девушка немногим более двадцати лет. Эта девушка, Диана…
Дю Морье замедлился, будто не хотел признаваться в каком-
Страница 20
о деликатном деле. – …поступила от родственницы. Около двух лет назад. За это время родственница умерла. Естественно, прекратилась и оплата счетов. Но что мне делать? Выставить пациентку на улицу? Мне мало что известно о ее прошлом. Похоже, если верить ее собственным рассказам, что с возраста созревания она периодически испытывала, с интервалами в пять или шесть дней, при волнении, болевые ощущения в висках, после чего впадала в прострацию. Она предпочитает называть это сном. Но это припадки истерии. Когда она пробуждается или успокаивается, она совсем не такая, какой была до припадка. После приступа больная входит в состояние, которое у доктора Азана называется «второй кондицией». В то время как в своей кондиции, скажем так условно, «нормальной» Диана ведет себя по типу адептов масонской секты… Сразу скажу, что сам я член ложи Великого Востока, масонской ложи для приличных людей. Но вы знаете, конечно, что существуют и объединения тамплиерского толка, с выраженной наклонностью к оккультизму. И даже некоторые их фракции (маргинальные, конечно, по счастью) тяготеют к сатанизму. В кондиции, увы, для Дианиного случая «нормальной» она считает себя обожательницей Люцифера. Что-то в таком роде. У нее распущенная речь с изрядной примесью скабрезностей. Она пытается соблазнять медицинский персонал, не исключая и меня. Мне неудобно признаваться, но это так. И тем конфузнее, что Диана, как говорится, женщина интересная. Для меня несомненно, что на этой «нормальной» кондиции Дианы сказываются травмы, перенесенные ею в пубертатный период. И что, спасаясь от этих воспоминаний, она периодически переходит в кондицию «вторую». Тогда Диана превращается в мягкое чистое создание, в набожную христианку. Просит дать ей молитвенник, намеревается посетить мессу. Характерно для этого случая, как и для случая Фелиды, что во «второй» кондиции, когда она Диана добродетельная, Диана прекрасно помнит, какой была в «нормальной» кондиции, и терзается, отчего она была такой скверной, и налагает на себя взыскание – власяницу. «Вторую» кондицию она именует «благоразумным» состоянием, а свою «нормальную» кондицию считает мороком, следствием галлюцинации. В «нормальной» кондиции Диана не помнит, как вела себя во «второй». Эти два состояния чередуются. Пациентка пребывает в каждом по нескольку дней. Я солидарен с теорией доктора Азана о случаях «совершенного сомнамбулизма». Не только сомнамбулы, но и многие из тех, кто употребляет дурман, гашиш, белладонну, опиум, злоупотребляет алкоголем, по пробуждении не помнят своих поступков.Не знаю отчего, но рассказ о клиническом случае Дианы заинтриговал меня. Помню, я сказал Дю Морье: «Я переговорю с одним господином, заботящимся о неблагополучных. Он должен знать, где может найти приют молодая сирота. К вам обратится аббат Далла Пиккола. Это важное лицо в благотворительных учреждениях».
То есть, когда я беседовал с Дю Морье, я, безусловно, знал имя Далла Пиккола. Но почему я заинтересовался этой Дианой?
Я пишу уже несколько часов, палец у меня ноет. Поел я наскоро прямо за работой, бутерброд с паштетом и несколько бокалов доброго Шато-Латур, чтобы взбодрить ум.
Поэтому я заслуживаю награды. Например, обеда у «Бребан-Вашетт». Но это невозможно до тех пор, пока я все-таки не дознался, кто я. До того времени придется мне ограничиваться набегами на пляс Мобер, быстро закупать припасы и снова прятаться в домашние стены. Так что не думаем о ресторанах. Продолжим нашу работу с пером в руке.
В те годы (полагаю, был восемьдесят пятый или восемьдесят шестой) я познакомился в «Маньи» с человеком, которого не раз уж тут назвал австрийским доктором (или немецким). Сейчас я вспомнил даже его имя. Его звали Фройд (я не уверен, что правильно написана фамилия). Лет приблизительно тридцати, он, безусловно, посещал «Маньи» лишь оттого, что на лучшее у него не хватало средств. Он был практикантом в клинике у Шарко. Он усаживался за соседний стол. Поначалу мы только вежливо кивали друг другу. Сперва я решил, что это личность меланхоличная, унылая, не уверенная в себе и робко ищущая, кому бы пожаловаться и кому излить хотя бы отчасти свои печали. Не раз и не два он пытался завести со мной разговор. Но я постоянно воздерживался. Фамилия Фройд, конечно, не настолько выраженная, как Штейнер или Розенберг, но все-таки мне хорошо известно, что все евреи, живущие и жиреющие в Париже, как правило, укрываются под немецкими фамилиями. К тому же у него и явственно крючковатый нос. Я перекинулся двумя словами на этот счет с Дю Морье. Тот развел руками:
– Вот сам не знаю, что вам сказать, но держусь от него подальше. Еврей, да еще немец – это такая смесь, которая меня не привлекает.
– Он вроде австриец? – возразил я.
– Какая же разница? Один язык, одна душа. Я не забыл, как пруссаки маршировали по Елисейским полям совсем недавно.
– Я слышал, что профессия врача одна из самых распространенных у иудеев. Конечно, после ростовщичества. Не приведи нас господь испытать нужду в деньгах или в лечении. – Ле
Страница 21
итесь у христиан, – отрубил Дю Морье. Да, это я неудачно ляпнул.Некоторые ученые французы, прежде чем высказать отвращение ко всему еврейскому, обязательно подчеркнут, что у них у самих есть евреи-друзья. Это такое бытующее лицемерие. У меня нет евреев-друзей. Господь меня оборони от них. Я всегда чуждался евреев. Может, это выходило у меня самопроизвольно. Потому что еврея (аналогично, как и немца) отличает сильная вонь. Это и Виктор Гюго писал – fetor judaica. Поэтому их распознают. И есть еще другие признаки, как и у педерастов. Дедушка говорил, что евреи воняют. Спертый дух у них от поедания лука и чеснока, обильной баранины и утятины: тяжесть на желудке и потребляемые вязкие сахара являются причиной еврейской желчности. Да еще и сама по себе их порода. Их испорченная кровь, вялость внутренних органов. Все они коммунисты – Маркс, Лассаль. Тут уж, приходится признать, были правы мои иезуиты. Я евреев с успехом избегаю, потому что разбираюсь в фамилиях. Австрийские еврейчики, забогатев, покупали себе фамилии покрасивее. Названия цветов, драгоценных камней, металлов: сплошные Зильберманы и Гольдштейны. Кто победнее, мог купить себе фамилию по полудрагоценным камням, например Грюншпан (по-немецки это малахит). Во Франции, так точно как и в Италии, евреи маскировались фамилиями, произведенными от городов или земель, – Равенна, Модена, Пикар, Фламанд. Черпали и из революционных якобинских святцев, где каждому дню было присвоено особое имя – Фроман (пшеничный), Авуан (от овса), Лорье (от лавра). Оно и понятно, потому что их отцы-то и были тайными зачинателями цареубийственного переворота. Да что фамилии! Имена тоже укрывают евреев. Морис – замена имени Моисей, Исидор – замена Исаака, Эдуарами прикидываются Ароны, Жаками Иаковы, Альфонсами Адамы…
Зигмунд. Еврейское это имя? Бог весть. Инстинкт подсказывал мне – подальше от этого лекаришки. Но как-то раз этот самый Фройд потянулся за солонкой и уронил ее. Между соседями по столам существуют определенные обязательства приличий. Я одолжил ему свою и сказал: «В некоторых странах просыпать соль – плохая примета». Он заулыбался и ответил, что в приметы не верит. И с того дня мы перекидывались фразой-двумя каждый обед. Он просил извинить его дурной французский. Хотя на самом деле изъяснялся превосходно. Они ведь все, безродные, умело обезьянничают местные говоры. Я вежливо сказал: «Вам только надо поупражняться на слух».
Он благодарно улыбнулся. Подлейшее притворство!
Этот Фройд подлец и по отношению к собственной еврейской породе. Я знаю, им позволяется только какая-то особенная пища, вся специально приготовленная, и оттого-то они не покидают родные гетто. А этот Фройд уплетал за обе щеки все, что разносили по столикам в «Маньи», и запивал хорошей кружкой пива каждую трапезу.
Однажды он раздухарился больше обычного. И пива высосал не кружку, а две. И за десертом, нервно куря, потребовал снова принести ему пива. Говорил, махал руками, перевернул солонку, уже вторично. – Я не столько неловок, – заизвинялся он, – сколько взволнован. Вот уж три дня как нет мне писем от невесты. Она, конечно, не обязана писать каждый день, как ей пишу я, но и затишье для меня подозрительно. Она, знаете, очень хрупкого здоровья. Мне всякий раз боязно оставлять ее. Я без нее не могу, мне требуется поддержка во всех делах. Мне хотелось бы скорей прочесть, что она думает о моем недавнем походе на ужин к господину Шарко. Потому что, знаете ли, месье Симонини, я ведь побывал на торжестве у этого великого человека. Побывал тут на днях. О, не всякому молодому доктору, к тому же приезжему, и вообще иностранцу, выпадает подобная честь. «Ага-га, – произнес я мысленно. – Маленький ты семитский выскочка. Хочешь втереться в порядочные семьи, сделать карьеру. А все твои аханья об этой невесте тоже признак сластолюбия, типично иудейского. У вас помыслы постоянно вращаются в сфере пола. Ты о ней ведь думаешь по ночам, ведь правда? Думаешь? Да еще и самоудовлетворяешься, воображая себе эту невесту? Тебе бы тоже полезно было прочесть Тиссо!» Однако следовало дать ему выговориться.
– Там были гости отборные: молодой месье Доде, сын Альфонса Доде, и доктор Штраус, ассистент Пастера, и профессор Бек из Института, и Эмилио Тоффано, знаменитый итальянский живописец. Этот званый вечер обошелся мне в четырнадцать франков. Превосходный черный жилет с застежками из Гамбурга, новые белые перчатки, новая рубашка и, естественно, фрак, который я надел впервые в жизни. Точно так же я впервые в жизни пошел подстричь в парикмахерской себе бороду на французский манер. Что до вечной моей скованности… Немного кокаина, и я был в состоянии шевелить языком.
– Кокаин? Позвольте, разве это не яд?
– Все на свете может быть ядом, если потреблять в несуразных дозах. Даже вино. Вот уж два года я изучаю кокаин. Чудотворное средство. Видите ли, речь идет об алкалоиде, выделяемом из растения, которое южно-американские туземцы жуют, чтоб легче переносить высокогорный андский климат. В отличие от опия и алкогол
Страница 22
кокаин возбуждает мозговую деятельность, но не имеет вредных последствий. Чудное обезболивающее, незаменимое в офтальмологии, а также для подавления симптомов астмы, для лечения алкоголизма и наркотической зависимости. Избавляет от морской болезни. Полезно при лечении диабета. Как по волшебству снимает чувство голода, усталость, сонливость. Это прекрасный заменитель табака, лекарство от диспепсии, желудочных газов, колик, гастритов, ипохондрии, поясничных болей, сенной лихорадки. Это чудесный способ против туберкулеза и мигрени. При острых кариесах ватку, смоченную четырехпроцентным раствором кокаина, закладывают в пораженную полость, и боль моментально утихает. В особенности известно воздействие кокаина на подверженных депрессии. Он возвращает им самоуважение, бодрит их дух, делает активными и оптимистами.Доктор уж пил четвертую порцию спиртного. Он так клонился на мой стол и ко мне, как будто бы решил исповедаться. – Кокаин замечателен для меня, для подобных мне, как неоднократно писал я восхитительной Марте. Для тех, кто не считает себя привлекательным. Кто смолоду не был молод, а достигнув тридцати лет, тщился и не умел повзрослеть. Было время, когда во мне говорили только честолюбие и любознательность. Я часто обижался на то, что мать-природа по милосердной прихоти не напечатлела на моем челе печать гения, которую она случайно и щедро раздаривает людям.
Он вдруг запнулся – подумал, что слишком обнажает душу. Хныкливый иудеишка. Мне захотелось смутить его еще сильнее. – О кокаине говорят, будто у него афродизийное действие? – проронил я.
Фройд густо покраснел.
– Есть у него и эта способность, будто бы… но я не имею непосредственного опыта. Как мужчина, я нечувствителен к игривостям. А как медик, не интересуюсь проблематикой полового чувства. Хотя в последнее время эта проблематика входит в моду в клинике Сальпетриер. Шарко обнаружил, что пациентка Августина в продвинутой фазе своих истерических приступов дала возможность выявить, что ее первичной травмой было изнасилование, перенесенное в детстве. Естественно, я не отрицаю, что среди травм, приводящих к истерии, могут быть травмы полового характера. Нелепо было бы априори отрицать это. Но по-моему, ошибочно возводить все на свете к вопросу пола. Впрочем, может статься, что меня ограничивает мелкобуржуазная конфузливость…
Ха, негодовал я в уме, конфузливость! Да у тебя одержимость вопросами пола! У тебя, у всех у вас у обрезанных. Ты просто об этом стараешься забыть. А вот воображаю, как ты зацапаешь-таки сальными лапами Марту, наделаешь ей сопливых еврейчиков, затеребишь до чахотки…
Тем временем Фройд продолжал: – Незадача именно в том, что я исчерпал свои запасы кокаина. Меланхолия одерживает надо мной верх. Старинные врачеватели сказали бы – разлитие черной желчи. Я было закупал снадобье у «Мерка и Гее», но они прекратили производство, к ним стало поступать негодное сырье. Перерабатывать следует лишь свежие листья, а значит – производить только в Америке. Поэтому самый качественный товар продает фирма «Парк и Дэвис» из Детройта. У них кокаин быстрорастворимый, чистого белого цвета, ароматического запаха. У меня был запас. Он кончился. Не знаю, к кому и обратиться тут в Париже.
Это мне-то, посвященному во все секреты площади Мобер и близлежащего околотка! Мне ли не знать! Я знаком с такими молодчиками, которые, скажи им не то что кокаин – а хоть брильянт, хоть чучело берберийского льва, хоть бочку соляной кислоты, наутро доставят тебе, будь благополучен, все, что заказывал, но только не спрашивай, откуда взяли. Я убежден, что кокаин – отрава. Ну а травить иудея – святое дело. Поэтому я уверил доктора Фройда, что через несколько дней он может рассчитывать на добрую порцию своего алкалоида. Он, ясно, не сомневался в праведности моих методов.
– Видите ли, – буркнул я, – любой антиквар имеет самые неожиданные связи.
Все это не связано с моей проблемой, а только чтобы пояснить, как вышло, что мы в конце концов с ним зазнакомились и даже нашли общий язык. Фройд оказался словоохотлив, умен. Может даже статься, что я ошибся и никакой он не еврей. С ним беседовать было не в пример интереснее, чем с Буррю и Бюро. Дошло и до разговора об экспериментаторстве тех двоих. Я коротко пересказал, что знал о пациентке Дю Морье.
– Как по-вашему, можно лечить такую больную магнитами, как они?
– Дорогой друг, во многих случаях уделяется чрезмерное внимание физическому аспекту. Гораздо вероятнее, что проявленное неблагополучие коренится в психике. А значит, лечить надо психику. В случае травматического невроза настоящая причина болезни – не повреждение. Как правило, повреждение незначительно. Настоящая причина – первичная психическая травма. Видели вы, как от эмоции теряют сознание? Вот, для специалиста существенно не потерянное сознание, а выяснить, какая эмоция заставила человека упасть.
– А возможно ли узнать, какая именно эмоция? Как?
– Ну, когда симптомы выраженно истеричные, к примеру у этой пациентки Дю Морье, в т
Страница 23
ких случаях гипноз может сознательно провоцировать те же самые симптомы. Действительно создается возможность доискаться до первичной травмы. Но бывает, что пациенты переживали опыт до того невыносимый, что желали вытеснить его, ну, то есть загнать в недоступную зону души, куда не дойдет никакой гипноз. Да и кто сказал, что под гипнозом наш ум работает живее, чем при бодрствовании?– Ну, тогда никогда не выяснится…
– Не пытайтесь добиться ясного и окончательного ответа. Я делюсь соображениями, еще не получившими завершения и формы. Порой мне хочется думать, что эта плотно закрытая зона становится доступна только в состоянии сна. Ведь и в древности было известно, что сны бывают вещими. Я полагаю, что если больному дана возможность беседовать, причем продолжительно и регулярно, день за днем, с человеком, умеющим слушать, пациент перескажет ему, в частности, свои сны, чем поспособствует выявлению первичной травмы. По-английски это talking care, разговорная терапия. Да и с вами, вероятно, случалось, что, рассказывая о давних событиях, в ходе рассказа вы вдруг припомните вытесненные детали, которые ваш мозг тайно хранил. Я думаю, что чем пристальнее трудишься над реконструкцией, тем вероятней, что обнаружится какой-нибудь эпизод или даже какая-нибудь незначащая деталь, подробность, нюанс, повлиявший на рассудок столь разрушительным образом, что в результате мы имеем Abtrennung, отторжение… или же Beseitigung, упразднение… Довольно трудно подобрать название. По-английски я назвал бы это removal, вытеснение, а вот как назвать по-французски… Как когда ампутируют орган…
Une ablation? Удаление? Ну, в общем, по-немецки правильным термином будет Entfernung, отстранение.
Вот где иудейство-то, ликовал я. Думаю, почти убежден, что именно тогда, кажется, я занимался разными еврейскими заговорами и злоумышлениями их тлетворной расы. Они ловчат открыть своим детям будущность медиков или аптекарей с явной целью помыкать и телом и душой христиан! Ты бы небось хотел, лекаришка, захворай я, чтоб я отдался твоим заботам и выложил о себе все, даже чего не знаю? И ты бы стал распоряжаться в моей душе? Да ты вреднее исповедника-иезуита. С тем хотя бы разговор ведется через решетку. И ему сообщают вовсе не правду, а только скупой отчет о том, что делает каждый и всякий, для исповеди существуют однообразные и почти казенные формулы: я украл, я прелюбодействовал, я не чтил отца моего и мать мою. А у тебя, друг, язык такой, что сам и выбалтывает тайную суть, ясно же: ты разглагольствуешь об «удалении», а подразумеваешь нечто наподобие обрезания мозгов.
Тем временем Фройд хихикнул и заказал себе очередную кружку. – Да не верьте вы мне. Я тут вам наговорил! Досужие фантазии. Вернусь вот в Австрию, заключу брак и стану отцом семейства, а значит – открою медицинскую практику. И буду применять гипноз, использовать с толком науку доктора Шарко. Я нипочем не стану шарить по снам моих больных. Я же не пифия. Вот интересно, не помогла ли бы этой пациентке Дю Морье толика кокаина.
Вот так окончилась беседа в тот вечер. Я ее выбросил из головы. А сейчас она припоминается мне снова. Потому что как бы мне не оказаться самому если не в положении Дианы, то в положении почти нормального человека, частично утратившего память. Не говоря уж о том, что тот Фройд теперь… поди найди его. Я нипочем не стал бы рассказывать свою жизнь, не говорю уж еврею, даже и доброму христианину. С моим-то ремеслом. (А какое у меня ремесло?..) Мое дело – докладывать о других и брать за это деньги. А о себе не выкладывать ни словечка. Тем более бесплатно. Да. Но себе-то самому я могу о себе рассказать, правда? Я вспомнил, что Буррю (или Бюро) говорил: есть мастаки, которые сами себя в состоянии загипнотизировать, созерцая собственный пуп.
Вот я и решил посредством этого дневника, через силу, рассказывать себе свое прошлое по мере того, как удается выуживать его из ума, в мельчайших и даже несущественных деталях, покуда эта травмирующая, как там она называлась, заноза не вылезет на поверхность. Я сам собой излечусь, не даваясь врачевателям бесноватых девок.
Прежде чем приступить, хотя я, честно говоря, уже приступил вчера… я приведу себя в расположение, приличествующее самогипнозу. Пойду на улицу Монторгёй, к «Филиппу». Усядусь там ладком. Исследую карту блюд, страницу «от шести до полуночи». Закажу суп а-ля Креси, рыбу ската с каперсами, бычачий филей, телячий язык в соку. Увенчаю все это мараскиновым шербетом и пирожными. С двумя бутылками старого бургундского.
Пока суд да дело, полночь и придет. И я перейду по традиции к новой странице – к ночному меню. Это будет, скорее всего, черепаховый суп. Помню один незабываемый, по рецепту Дюма.
Как, когда Дюма меня угощал? Я что, знаком с Дюма?
После супа – лосось с луковицами и артишоками, окропленный яванским перцем. В завершение ромовый шербет и английские бисквиты со специями. Ночь тем временем прошла. Может, что-нибудь из утреннего репертуара? Луковый суп, лучший на свете луковый суп подают п
Страница 24
утрам грузчикам «парижского чрева» – Центрального рынка. Зайду туда. Попростонародничаю с ними. А когда наступит час приниматься за утренние дела – разлюбезная вещь сильнодействующий кофе, а затем глоток коньяку пополам с киршем.Может, все разом получится несколько чересчур питательно? Но зато на душу мою низойдет благодать.
Горе! Не могу предаться этим сладостным прожектам. Я ведь беспамятный. А если в ресторане подойдет ко мне кто-нибудь из знакомых? Что я буду делать?
Конечно, знакомые могут зайти и сюда в лавку… С этим субъектом, который хотел завещание Бонфуа, и со старухой (просфоры) все прошло гладко. Это называется пронесло. А могло ведь выйти и гораздо хуже. Я повесил объявление у двери: «Хозяин отлучается на месяц». Без всякого указания, когда месяц начался и когда закончится. Покуда не сыщу смысла и толка в своей собственной истории, буду сидеть дома как мышь. Выходить только за провизией. Попоститься мне тоже не помешает. Можно ли исключить, что происшедшее – результат чрезмерного чревоугодия?! Но когда же я объелся непоправимо? В тот самый непроясненный вечер двадцать первого марта, что ль?
Кстати, поститься придется и для возможного обретения памяти путем созерцания пупа. Помню – слышано от Бюро (или Буррю?). А с надувшимся животом, обладая дородной корпуленцией, соответственной моему возрасту, созерцать я пуп смогу исключительно перед зеркалом.
В общем, накануне вечером я сел за стол и безостановочно пустился писать, не отвлекаясь ни на что и подкрепляясь чем-то малосущественным. Кроме вина, ясное дело. В вине я никак уж себе не отказывал. Лучшее в моей квартире – это весьма и весьма достойный погреб.
4. Дедовы времена
26 марта 1897 г.
Детство. Турин… На холме за рекой дом, балкон, мать. Потом мать исчезает из пейзажа, отец всхлипывает на балконе, закат. Дед его утешает: Бог дал, Бог взял. У нас в семействе говорили по-французски, как в любом порядочном пьемонтском доме. Тут в Париже по выговору меня причисляют к выходцам из Гренобля. У них французский чистый, не то что шепелявленье парижан. В моем детстве было больше французского языка, чем итальянского. Поэтому я не выношу французов.
* * *
Детство мое связано большей частью с дедом. Не с матерью и не с отцом. Я возненавидел свою мать за то, что она ушла не попрощавшись, отца – за то, что он ей не воспретил уйти, а также Бога за то, что он так все устроил, и деда за то, что он счел нормальным поведение Бога. Отец вечно мотался где-то – делал Италию, по его словам. За это Италия его славно отделала.
Деда звали Джован Баттиста Симонини. Отставной офицер войска Савойского. Оставил ряды, если верно помню, когда Италию завоевал Наполеон. Определился на службу к флорентийским Бурбонам. Тоскана тоже стала уделом семьи Буонапарте. Дед вернулся в Турин отставным капитаном с целым приданым разочарований.
Шишковатый нос деда. Сблизи я только этот нос и видел. И еще чувствовал на лице брызги его слюны. Он был, как говорят французы, из бывших (ci-devant). Ностальгик по Ancien Rеgime, так и не смирившийся с революцией. Он не отказался от кюлотов – икры были у него стройные. Кюлоты застегивались под коленками на золотые пряжки. Золотыми же пряжками украшались лаковые туфли. Жилет и верхнее платье черного цвета при черном галстуке придавали ему смутно поповский вид. По прежним правилам, тут требовался бы и пудреный парик, но дед был против, поскольку париками украшались головы таких извергов, как Робеспьер.
Я так и не понял, богат ли был дед. Но в радостях стола он себя не ограничивал. Из воспоминаний о деде и детстве первое – bagna ca?da. В глиняном горшке, поставленном над углями на треножнике, кипит олей, в нем растертые анчоусы, чеснок и сливочное масло. Туда окунают кардоны (предварительно вымоченные в холодной воде и лимонном соке. Вымачивают их и в молоке, но только не мой дед). Еще туда идут крупные сырые или печеные перцы, белокочанная капуста в листьях, топинамбур, молодая цветная капуста. А также (но дед считал, что это только у бедняков) отварные овощи, лук, свекла, картофель или морковь. Я охоч был к еде. Деду нравилось, что я толстею точно (умиленно приговаривал он) как недорощенный кабанчик. Брызжа слюной, дед делился со мной сокровенной мудростью:
– Революция, внучек, сделала нас рабами безбожного правления. Рознь между людьми возросла, вражда стала сильнее, всякий Каин своему брату. Когда свободы больно много, это не к добру. Когда ни в чем нехватки нет, тоже не к добру. Отцы наши были беднее и счастливее. Они не теряли связь с природой. Современный мир дал нам пар. И ныне пар отравляет нашу сельскую местность. Нам дали механический ткацкий стан, и ныне многие ткачи лишились работы. Да и ткани стали не те. Человек, предоставленный себе самому, слишком зол и подл, чтобы быть ему свободным. Ту немногую свободу, которая человеку пристала, ему должны гарантировать самодержцы. Самым же любимым коньком деда был аббат Баррюэль. Вот я наново ребенок и наново будто вижу этого Баррюэля. Можн
Страница 25
подумать, Баррюэль жил у нас в доме… На самом-то деле его давно уж не было на свете.– Мальчик мой, когда сумасшествие Революции потрясло все народности Европы, послышались голоса, утверждавшие, будто Революция – не что иное, как последняя или новейшая глава мирового заговора, основанного еще тамплиерами, направленного против трона и алтаря, то есть против монархов, особенно королей Франции, и пресвятой матери-церкви. Таким голосом был голос Баррюэля, который в конце прошедшего века опубликовал свои «Мемуары для объяснения истории якобинства»…
– Но кто такие эти тамплиеры? – вопрошал я, уже выучивший все ответы наизусть. Я давал деду возможность поговорить на излюбленные темы.
– Тамплиеры, милый мой, это очень могущественный рыцарский орден, который короли Франции уничтожили, дабы завладеть сокровищами рыцарей, и сожгли большинство рыцарей на костре. Но те, кто уцелели, тайно учредили секретный орден, желая отомстить королю Франции. И действительно, когда глава Людовика Шестнадцатого пала под ножом гильотины, неизвестный человек закарабкался на помост и поднял за волосы бедную голову с криком: «Жак де Молэ, ты отомщен!» А Молэ как раз был главой ордена тамплиеров, по приказу короля он был сожжен на стрелке острова Сите в Париже.
– А в каком году сожгли этого Жака де Молэ?
– В тысяча триста четырнадцатом.
– Дайте я посчитаю, дедушка… Но это же было чуть ли не за пять сотен лет до Революции. Что же, все эти пятьсот лет тамплиеры только и делали, что прятались?
– Они внедрялись в артели каменщиков. Строителей соборов. Из этих артелей произошло английское масонство. Оно так называется, потому что участники считали себя франкмасонами, то есть вольными каменщиками.
– А зачем каменщикам революция?
– Баррюэль понял, что и каменщики древних времен, и франкмасоны, и первые и вторые были совращены и завербованы баварскими иллюминатами! Иллюминаты эти – опаснейшая секта, основанная неким Вейсгауптом. Каждый сообщник в ней знал только своего непосредственного начальника. Никто не имел сведений о руководителях, а тем более о намерениях этих руководителей. Намерения же состояли не только в прямой угрозе трону и алтарю, но и в основании общества без законов и без морали, где бы в общественном пользовании было не только имущество, а и женщины, господи прости меня за то, что рассказываю подобное отроку, но и он должен распознавать сатанинские тенета. Двойными узлами были повязаны с баварскими иллюминатами те попиратели всякой веры, которые сфабриковали гнусную «Энциклопедию»: Вольтер, д’Аламбер, Дидро и вся их свора, подпевавшая заграничным иллюминатам, во Франции превозносившая «Век просвещения», а в Германии «Просветление» или «Разъяснение» (Aufkl rung). Тайно объединяясь, дабы злоумышлять против короля, они образовали пресловутый клуб якобинцев, в честь как раз того самого Якова, то есть Жака де Молэ. Вот чьи подкопы довели до того, что во Франции разразилась революция!
– Этот Баррюэль сумел все-все понять…
– Он не смог понять, как из рыцарей-христиан развилась секта недругов Христовых. Знаешь, это как будто дрожжи в тесте. Если мало дрожжей, тесто не растет, не набухает. А если дрожжей много, тесто растет. Что же это были за такие дрожжи, впущенные судьбой или дьяволом в изначально здравое тело тамплиерских отрядов и строительских артелей, с тем чтобы набухла и зародилась из них самая на свете вредоносная секта, знаемая за все времена? Тут мой дед выдерживал эффектную паузу, сводил лодочкой руки, будто для сосредоточения, хитровато улыбался и с рассчитанной триумфальной ложной скромностью ронял, скупо выцеживая слова:
– Кто на свете самым первым возымел храбрость выговорить ответ, это был как раз твой дед, милейший юноша. Прочитавши книгу Баррюэля, я немедля написал ему письмо. Там, у дальней стены комнаты. Поди, мальчик. Принеси мне ту шкатулку, которую видишь у стены. Я тогда шел и приносил. Дедушка открывал шкатулку золоченым ключиком, который в обычное время находился у него на шее, и вытаскивал пожелтелый лист сорокалетней давности.
– Это оригинал письма. Баррюэлю я тогда отослал список. Дед читает с драматическими паузами:
– «Соблаговолите, государь мой, от немысленного служаки, каковым являюсь, принять уверения в совершеннейшем восхищении вашим трудом, ибо по праву должен бы он именоваться главнейшим произведением минулого века. О! Как сорвали вы маски с множества подлых сект, протаскивающих Антихриста! Они же заклятые враги не только христианского вероучения, но и любого культа, любого общества, любого ордена. Одну из сект, однако же, вы тронули вовсе мало. Может, и с умыслом: она из всех самая видная, а значит, менее потаенная. И все же я нахожу, что у ней могущество примечательное, памятуя о громадных роскошах и покровительствах, коими пользуется она почти во всех государствах Европы. Вы угадали уже, сударь. Подразумеваю секту иудейскую. Она по виду отделена и противница прочих сект. По виду, но не по правде. Стоит какой-либо из тех сект выказаться врагинею христианско
Страница 26
о рода, как тут же евреи ее покроют, прикроют, оплатят и защитят. Их золото и серебро изливается на современных софистов, франкмасонов, якобинцев, иллюминатов. Евреи, таким образом, со всеми прочими сектантами в смычке, и их цель изничтожить христианский мир. И не думайте, достоуважаемый мой, что я присочинил. Я ни единого словечка не привожу тут, которое не было бы мне подсказано евреями самими…»– А как вы вызнали эти вещи от евреев?
– Мне было двадцать лет, чуть больше. Я был молодым офицером савойских вооруженных сил. Наполеон тогда захватил Сардинию и Пьемонт. Нас разбили при Миллезимо, Пьемонт аннексировали к Франции. Это был триумф безбожных бонапартистов, которые охотились за нами, королевскими офицерами. Хотели перевешать нас за шеи. По общему мнению, не имело смысла разгуливать в армейских мундирах. Да и ни в каком виде не имело смысла разгуливать. Мой отец имел коммерцию. У него был знакомый еврей, ростовщик. Он был должник отцу, не знаю за какое благодеяние. И на неделю, покуда страсти не откипели и я не выбрался из города к далеким флорентийским родственникам, он предоставил мне в распоряжение, за дорогую цену, естественно, а как же… облезлую комнатенку в гетто. Еврейское гетто было в точности позади нашего дворца. Между улицей Сан-Филиппо и улицей Розин. Очень мало хотелось мне валандаться с подобною швалью. Но в этом месте в единственном никто бы не подумал меня искать. Евреям было запрещено выходить оттуда, а приличные люди туда ногой не ступали. Тут дедушка загораживал глаза рукой, отгоняя невыносимое видение. – Вот так я и пережидал, пока минует угроза. В загаженных трущобах, где ютилось по восемь человек в квартиренке. Всех там удобств – кухня, койка и отхожее место. На лицах у всех анемия, кожа восковая, с голубыми жилами, точь-в-точь севрский фарфор. И каждый норовил забиться в темный тихий угол, где только свет тусклой свечки. В их лицах ни кровинки. Сами желтые, с волосами цвета рыбьего клея. Бороды неопределенной рыжины, а если черные – то цвета заношенного лапсердака. Не в силах переносить смрад своего поместилища, я слонялся по пяти дворам гетто и до сих пор ясно помню их названия. Большой двор, Духовный двор, Виноградный, Двор Таверны и Двор Террасы. Сообщались они убогими переходами – Темными портиками. В наши времена повстречаешь иудея и на Карловой площади. Где угодно их ты повстречаешь, Савойская династия полностью перед ними разоружилась. Но в те времена евреев еще держали строго, как селедок в бочке, в бессолнечных переулках. В их чадной и смрадной толпе меня бы давно уж вытошнило, право, не страшись я сильнее всего бонапартистов… На этом месте мой дедушка медлил и прижимал к губам утиральник, как чтоб убрать рвотную слюну изо рта. – И эти-то меня спасали. Какое унижение. Но, должен я заметить… как мы, христиане, презирали евреев, так и евреи с нами не нежничали, даже ненавидели. И впрочем, до сих пор они ненавидят и сейчас. Поэтому я рассказывал им, будто родился в Ливорно в еврейской семье, воспитан был дальними родственниками, которые меня, к моему прискорбию, окрестили, а в сердце был и остаюсь настоящим евреем. Эти признания их не поражали, потому что, по их словам, многим выпала такая же судьба, так что они уже, право, устали удивляться. Единственный, кто хорошо принял мои рассказы, это был старик, проживавший на Дворе Террасы рядом с пекарней, где готовили мацу. Добираясь до этой встречи, дедушка возбуждался, и далее уже в рассказе появлялась характерная жестикуляция и бешеное вращание глаз, в подражание тому самому еврею. Имя его было Мордухай. Происходил он, кажется, из Сирии. В Дамаске он был вовлечен в печальные события. В их городе пропал из дому мальчик, какой-то там араб. Никто и не подумал думать на евреев. Все были убеждены, что евреи убивают для своих нужд исключительно христианских младенцев. Но когда во рву были найдены бедные останки, изрезанные, истолченные в какой-то ступе… Подробности преступления настолько совпали с тем, в чем обычно подозревают еврейских злодеев, что жандармы волей-неволей рассудили: близится Пасха, занадобилась христианская кровь для замеса мацы, не сумели найти христианского младенца – ну, евреи полонили младенца арабского, окрестили его, а потом истолкли в ступе для торжественных надоб. – Как ты знаешь, – приговаривал дед, – крещение имеет силу в каждом случае, крестить может всякий, крестить именем святоримской церкви. Это коварным иудеям ведомо. И они без какого бы то ни было стыда произносят: «Крещаю, как крестил бы христианин, в коего идолопоклонство я не верую, но в кое верует он сам всебесконечно». Хорошо еще, что маленькому мученику этим образом, по крайней мере, открывают ворота в рай. Хотя и ради дьявольского замысла.
Мордухая заподозрили сразу. Чтоб его разговорить, руки ему связали за спиной, повесили на ноги гири и раз двенадцать уронили его с высоко поднятой лебедки на землю. Потом подсунули ему серу под нос и потопили его в ледяной воде, и только он высовывал голову – ее запихивали под воду, покуда он во все
Страница 27
чистосердечно не сознался. Вернее, не назвал имен пяти своих соплеменников, совершенно непричастных, которых и казнили. А его со всеми вывернутыми суставами пустили из темницы на волю. Но он тогда уже лишился ума. Тут кто-то милосердный его отправил на торговом корабле в Геную, а то бы прочие евреи забили его камнями. Рассказывали также, что на корабле его оплел своими речами барнабит, уговоривший его креститься. И Мордухай, надеясь на вспомоществование при своем въезде в Сардинию и Пьемонт, притворно принял крест, в душе своей продолжая пестовать отцовскую веру. То есть будто бы Мордухай стал одним из тех, кого христиане зовут марранами. Как вдруг ни с того ни с сего в Турине, потребовав себе пропуск в гетто, он начисто отверг какое бы то ни было вероотступничество. Поэтому в гетто он прослыл лжеиудеем, в душе своей сохраняющим христианство. То есть двойным марраном. Но поскольку никто не мог проверить все эти тянувшиеся из-за моря слухи, из милосердия к умопомешанному его содержали на подачки в конурке, которой самый нищий житель гетто погнушался бы.По мнению деда, что бы там ни числилось за Мордухаем в Дамаске, безумия на самом деле в старике не было. А была в нем неутолимая ненависть к христианам, когда в своей безоконной конуре, держа трясущейся ладонью его руку и впериваясь в него очами, сверкавшими через темноту, Мордухай клялся деду, что отныне все существование и жизнь его посвящены отмщению. Мордухай открыл деду, что Талмуд предписывает ненависть к христианскому семени. Что ради совращения христиан евреи придумали франкмасонство, которого он, Мордухай, является одним из тайных предводителей, повелевающих неаполитанской и лондонскою ложами, но должен пребывать в потаенности, в негласности, в подполье. Иначе его заколют кинжалами иезуиты, которые охотятся за ним везде и повсюду.
При разговоре он оглядывался, будто боясь, что из темного угла высунется иезуит с кинжалом. Потом обстоятельно высмаркивался, пенял на свое нынешнее стесненное положение, а после этого хитро и мстительно улыбался в блаженстве, что миру неизвестна его истинная и ужасающая власть. Его сальные руки сжимали ладони Симонини. Продолжались необыкновенные рассказы. Мордухай намекал также, что, пожелай Симонини, Мордухаева секта примет его в лоно с радостью и допустит его в самую тайную из лож масонских.
И доверил Мордухай ему также, что Мани, пророк секты манихеев, как и зловредный Горный старец, напитывавший дурманом своих Ассасинов с целью посыла их на убийство христианских правителей, что они оба на самом деле были еврейского семени. Что франкмасонские и иллюминатские общества основаны евреями. И от евреев ведут свое начало все секты антихристианские, столь многочисленные в нынешнем мире, что в них уже немало миллионов сообщников и женского и мужеского пола, любого сословия, ранга и любого звания, не исключая многочисленных священников и даже некоторых кардиналов. И что вскорости имеется надежда заполучить даже римского папу к себе в ряды. И, как бы не преминул отметить дед, действительно, с тех пор как взошло на трон Петра столь двусмысленное создание, как Пий Девятый, Мордухаев план уже не кажется таким абсурдным. Иудей продолжал: чтобы лучше обманывать христиан, заговорщики сами прикидываются христианами, путешествуя и переходя из одной страны в другую, пользуясь подложными крестильными свидетельствами, приобретенными у подкупленного священства, подобным способом рассчитывая силою богатства и обмана получить от всех правительств гостеприимство и гражданские права, которые и получили во многих странах, а обзаведшись гражданскими правами наравне с населением, они планируют присваивать и приобретать земельную собственность и средствами ростовщичества отчуждать христиан от их имений и от их сокровищ. Евреи наметили себе менее чем за сто лет поработить мир, изничтожить все прочие секты, возвеличить свою собственную, построить не меньше синагог, чем имеется сегодня христианских церквей. И свести христиан к состоянию рабов.
– Таково, – заключал свою речь дед, – письмо, посланное мной Баррюэлю. Может, я при пересказе и усугубил его смысл неким образом, представляя дело так, будто мною слышано было это от всех на свете евреев, в то время как на самом деле только от одного. Но я действую в убеждении, что Мордухай выдал мне непреложную истину. И вот что я писал в завершении, дай тебе дочитаю документ до конца. «Таковы, мой сударь, мерзостные проекты иудейской нации, дошедшие до моих собственных ушей… Поэтому было бы превыше всего желательно, чтобы живое и превосходное перо, подобное вашему, открыло бы читающим глаза на сущность сказанных правительств, призвало бы читающих возвратить сказанный народ в ничтожество, которое ему приличествует, в коем наши более нас политичные и более нас рассудительные пращуры неукоснительно его держали. Посему, милостивый государь, я личным именем заклинаю вас, простите огрехи слога честному итальянцу и слуге отечества, пренебрегите теми нечистотами, которые, может статься, вы с досадой сочтет
Страница 28
в моем послании. Да воздастся вам щедрой дланию Божией обильное награждение за те сиятельные слова, коими вы обогатили Его церковь, и да вдохновит Он повсеместно во всех читающих высочайшее к этим словам почтение и глубочайшее уважение, в коих заверение имею я честь, милостивый государь, просить вас принять, как покорнейший и нижайший ваш слуга, Джованни Баттиста Симонини». Прочитав это, всякий раз, в то время как дед укладывал письмо обратно в шкатулку, я задавал один и тот же вопрос:– А что ответил аббат Баррюэль?
– Не удостоил меня ответом! Но поскольку у меня водились друзья в римской курии, я вызнал и убедился, что этот боязливец поостерегся распространять полученные от меня истины, дабы не дать ход преследованию евреев, к которому у него не хватило духу призывать, поскольку он считал, что среди оных попадаются и невиновные. Возымели, видимо, действие и интриги французских евреев того времени. Наполеон встречался с представителями Верховного Синедриона, ища у них поддержки собственным амбициям. И кто-то, несомненно, намекнул аббату, что не рекомендовалось ему мутить тогдашнюю воду. Но в то же время Баррюэль поостерегся замалчивать. Он переслал оригинал моего письма Его Святейшеству Пию Седьмому, а копии – нескольким епископам. И не только. Он ознакомил с письмом кардинала Феша, в то время председателя собора галликанской церкви, дабы тот представил сей документ Наполеону. Тем же порядком осведомил он и главу полицейского управления Парижа. После чего парижская полиция, как мне сказали, навела обо мне справки при римской курии, желая знать, авторитетный ли я свидетель, – и, черт меня побери, я оказался авторитетным. Кардиналы не могли не признать! Короче говоря, Баррюэль старался угождать и нашим и вашим. Не желал ворошить муравейник еще хуже, чем уже его разворошила опубликованная им книга, и тем не менее втихомолку распространял мои открытия по миру. А надо тебе сказать, что Баррюэля воспитывали иезуиты, пока Людовик Пятнадцатый не выдворил иезуитов из Франции, Баррюэль потом принял сан в качестве священника в миру, а впоследствии снова превратился в иезуита, когда Пий Седьмой вернул ордену полную легитимность. Ну, тебе известно, что я пылкий католик и чту любого, на ком надета ряса. Но, как ни кинь, иезуит – это все же иезуит. Говорит одно, делает другое, делает второе, говорит третье… Баррюэль вел себя в точности так. Дед хихикал, прыская слюной сквозь немногие стоявшие во рту зубы, наслаждаясь хлесткой сардоничностью собственных речей.
– Так-то вот, Симонино, дожил я до старости, не соглашавшись быть вопиющим в пустыне. Кто в мои слова не желал вслушаться, ответит за это пред Господом, однако вам-то, юным, я все же передаю факел свидетельства. Распроклятущие евреи все захватывают и захватывают власть, а наш трусливый правитель Карл-Альберт все уступает и уступает. Но его же и сметет сила их заговора…
– Как, здесь в Турине тоже заговор? – переспрашивал я. Дед обводил вокруг взглядом, будто страшился чужих ушей. Тени заката окутывали комнату.
– Здесь и повсюду, – отвечал он. – Окаянная раса. Их Талмуд говорит, как мне известно от тех, кто умеет читать его, что евреи должны проклинать христиан трижды в день и просить Бога, дабы он сокрушил христиан и извел их. Если кто-то из евреев встретит христианина у пропасти, он обязан столкнуть того вниз. Знаешь, почему тебя назвали Симонино? Я так пожелал. Пожелал, чтобы твои родители нарекли тебя в честь Симонино святого, младенца-мученика, который в пятнадцатом веке в Трентинской области был похищен евреями. Те его замучили и разрубили на куски, выцедили кровь невинную для своих религиозных обрядов.
* * *
«Будешь упрямиться и не спать – вот увидишь, придет к тебе ночью злой еврей Мордухай». Так пугал меня дед перед сном. Я не мог заснуть как раз из-за этого. В своей комнатке под крышей я прислушивался к тишайшему шуму или скрипу, мне казалось, будто слышатся на деревянной лестнице шаги адского старца, явившегося утащить меня в свою обитальню. Он заставит меня есть опресноки, спеченные на крови невинных младенцев. Рассказы эти смешивались у меня в голове с другими россказнями, слышанными от мамки Терезы, древней няньки, выкормившей в свое время моего отца и еще ковылявшей тогда по дому. Мордухай пришепетывал, брызжа помойными слюнями: «Чую я, чую я, христианским духом пахнет…»
* * *
Я дорос почти до четырнадцати лет, и меня стало тянуть в район старинного гетто, к тому времени выхлестнувшегося из древних границ: в Пьемонте как раз тогда отменяли традиционные ограничения. Околачиваясь в непосредственной близости от гетто, я, наверное, встречал сплошь и рядом этих самых евреев, но мне уже было известно, что они не одеваются по своему исконному фасону, а переряжаются. Переряженные ходят, негодовал мой дед. Переряженные, и их не удается распознать. Слоняясь у гетто, я заприметил одну черноволосую девицу, которая каждое утро появлялась на Карловой площади, неся какую-то корзинку под платком. Разносчица, видать, из лавки. Сияющ
Страница 29
е глазки, бархатные ресницы, матовая кожа… Не могла она быть иудейкой, происходить от чресл описанных дедушкой уродов – коршуноподобных хищных созданий с язвительными глазами. Не могли они рождать таких женщин. Однако жила-то она, несомненно, в гетто…Впервые в жизни я обратил взор на особу женского пола. За исключением старой няньки Терезы. Каждое утро я занимал место наблюдателя на площади. Видел ее еще издали, и у меня колотилось сердце. Бывали утра, когда ее не было. Я шатался по площади, будто ища выхода для бегства и не находя выхода. Не покидал эту площадь долгими часами, хотя дед уже, поди, усаживался за стол и грозно лепил пальцами шарики из мякиша.
Однажды я осмелился к ней подойти и спросил, не решаясь глянуть в лицо, не поднести ли ей корзину. Она ответила надменно на туринском диалекте. Сказала, что сама справляется превосходно. И назвала меня при этом не барином, а барчонком. Впоследствии я не старался увидеть ее и никогда и не увидел. Меня унизила дщерь Сионская. За то, что я толст? Как бы то ни было, с тех пор я объявил войну потомицам Евы.
* * *
В бытность мою отроком дед не посылал меня в школы Королевства, утверждая, что там преподают только карбонарии и республиканцы. Я просидел эти годы дома, смотрел, как другие мальчишки играют возле реки, сидел как обокраденный. Обидно было томиться взаперти с очередным иезуитом-учителем, которого дед выбирал в соответствии с моим возрастом среди черного воронья, окружавшего его. Я люто ненавидел каждого очередного учителя. Не только за битье линейкой по пальцам, но потому еще, что мой папаша (в те редкие дни, когда он рассеянно беседовал со мной) подуськивал меня против поповского сословия.
– Но мои же учителя не попы, а иезуиты, – возражал я.
– Ну так это еще хуже! Не доверяй иезуитам. Не доверяй им никогда. Знаешь, что писал о них один священник? Заметь себе, священник. Не масон, не карбонарий и не иллюминат, друг Сатаны, как часто любят их изображать. А ангельского добротолюбия священник, аббат Джоберти. «Именно иезуитство умаляет, гонит, мучит, оклеветывает, преследует и разоряет людей, одаренных свободой духа. Именно иезуитство изгоняет с публичных должностей людей порядочных и достойных и заменяет их никчемными и подлыми. Именно иезуитство мешкает, задерживает, стопорит, стреножит, расслабляет, препятствует тысячами способов в деле общественного и частного образования. Насаждает обиды, недоверия, пристрастность, ненависть, ссоры, явные и потаенные раздоры между личностями, семействами, классами, государствами, правительствами и народами. Иезуитство плющит умы, разбивает сердца, парализует волю. Где иезуиты, там бездеятельность – а она развращает юношество. Где иезуиты, там лицемерная и уклончивая мораль – а она развращает зрелый возраст. Иезуиты разрывают, холодят и гасят дружеские связи, кровные узы, сыновнюю привязанность, священную к родине любовь у подавляющего числа граждан. В мире нет столь бессердечной секты… (Это так писал Джоберти.) Столь бездушной, жесткой и немилосердной во всем, что касается защиты собственных интересов, как Общество Иисусово. За сладко-льстивыми личинами, медово-приторными речами и всеми вкрадчивыми и мягкими повадками у иезуитов, соблюдающих правило и дисциплину общества и слепо подчиненных начальству, таится железный характер, не сгибаемый святыми чувствами, не сгибаемый благороднейшими привязанностями. Иезуит неукоснительно выполняет завет Макиавелли о том, что где пекутся о благоденствии отечества, нет места рассуждениям о справедливости или неправедности, о милосердии или лжи. В этих интересах их воспитывают с младенчества в интернатах, дабы не свыкались с семейным теплом, не обретали бы друзей, а жили в предрасположении доносительства по начальству о наималейших упущениях самых дружественных товарищей, смиряли бы всякие движения сердец и располагались к безоговорочному подчинению, аки труп». Джоберти пишет, что индийские фансигары, члены секты душителей, жертвоприносят своим божествам врагов, умерщвляя их петлями или ножами. Иезуиты же убивают души людские языками, будто рептилии. Или же перьями. – Хотя комично, – завершал мой отец, – что эти свои идеи Джоберти позаимствовал из романа, опубликованного за год до выхода его сочинения. Из «Вечного жида» Эжена Сю.
* * *
Отец. Черная овца в почтенном семействе. Верить деду – мой отец якшался с карбонариями. Отец же вполголоса рекомендовал мне не обращать внимания на дедов бред. Но то ли от стыдливости, то ли от уважения к родителю, или от равнодушия ко мне, он все же не распространялся о собственных убеждениях. Приходилось мне подслушивать разговоры деда с его иезуитами и даже болтовню мамки Терезы с нашим дворником, чтобы угадать, что отец принадлежал к тем, кто не только хорошо относился к революции и к Наполеону, но и даже полагал, что Италии уже пора скинуть иго Австрийской империи и правление династии Бурбонов, скинуть власть папы и провозгласить себя тем, о чем дед просто слышать не мог, – провозгласить себя Объединенной Италией.
Страница 30
* * *
Это я подслушивал. А прямые назидания по этим вопросам я получал от падре Пертузо, очень похожего на хорька. Падре Пертузо вводил меня в курс современной истории точно в том ключе, в каком дед излагал историю прошлых веков. Позднее, когда все толковали о карбонарских движениях, я узнавал о них же подробнее из газет, приходивших отцу, в том числе и в его отсутствие, которые мне удавалось выкрадывать, прежде чем они попадали в руки деда – тот моментально уничтожал их… Помню, что мне полагалось учиться тогда греческому и латыни у падре Бергамаски, столь дружившего с дедом, что в особняке ему была выделена комната неподалеку от моей. Падре Бергамаски… В отличие от падре Пертузо он был нестар, неплох собой, с волнистыми волосами, с недурно очерченным лицом, приятной манерой разговора и в изящной сутане – таким он красовался по крайней мере в домашних стенах. Помню белые руки его с утонченными пальцами и чуть более длинными ногтями, нежели думаешь увидеть у духовного лица. Он усаживался обычно позади меня, корпевшего над книгой, и, поглаживая по голове, предостерегал от множества опасностей, грозящих неосмотрительному отроку. Объяснял, что карбонарство – не что иное, как одна из личин самой главной из имеющихся напастей, коммунизма. – Коммунисты, – пояснял иезуит, – до самого последнего времени не внушали опасений, но после публикации манифеста пресловутого Маркша (он звучит как-то в этом роде, похожая фамилия) следовало бы обличить и заклеймить их происки! Ты еще не знаешь о Бабетте д’Интерлакен. Достойная правнучка Вейсгаупта, прозванная Великой Девой швейцарского коммунизма…
Почему-то отец Бергамаски особенно сходил с ума даже не от миланских или венских бунтов, которые всех беспокоили в то время, а от религиозных конфликтов в Швейцарии между католиками и протестантами.
Бабетта, в грехе родившаяся, росла среди обжорства, краж, разбойничества и крови. О Господе не слышала ничего, кроме обильных богохульств. Во время заварушек под Люцерном, когда протестанты убивали католиков из лесных кантонов, именно Бабетту призывали: вырежь сердце у него, вырви глаза! Бабетта, развевая на ветру белокурую шевелюру вавилонской блудницы, таила под своими прелестями натуру провозвестницы тайных обществ, дьяволицы, задумывавшей плутовство и обманы каждой клики заговорщиков. Она внезапно появлялась и так же неожиданно исчезала, подобно миражу. Ведала заповедными тайнами. Вскрывала депеши, не разламывая печатей. Как аспид, проникала в самые недоступные кабинеты Вены, Берлина и даже Петербурга. Подделывала векселя, фальсифицировала номера на паспортах. Еще малолетней девчуркой она изучила науку отравлений и подливала капли тем, кого указывала ей ее секта. Она, казалось, одержима Сатаной, по лихорадочному ее могуществу и притягательности ее взглядов.
Я вытаращивал глаза, я даже старался не слушать Бергамаски, но делать нечего: по ночам мне снилась Бабетта д’Интерлакен. В полубреду я пытался изгнать фантом белокурой дьяволицы с распущенными волосами по плечам. По обнаженным, разумеется, плечам. О, сатанинский благоуханный призрак, вздымающиеся от распутного жара перси, безбожная и греховодная плоть, я вожделел ее и сочетал с ней свой дух. То есть, пронизанный ужасом от единой мысли дотронуться до нее даже кончиками пальцев, я испытывал зверское желание стать как она. В такой же степени всевластным и настолько же тайным и сильным, способным подделывать номера на паспортах и губить существ противоположного пола.
* * *
Наставники мои уважали хороший стол. Этот грешок, похоже, во мне прижился надолго, на всю зрелость. Я помню за столом атмосферу ликования, разве что лишь в самой малой степени богоугодно сдерживаемого: это преподобные отцы полемизируют о достоинствах пьемонтского отварного мяса, сготовленного по указанию деда. Для этого требуются отборная бычачья мякоть, хвост, подбедерок, колбаски, телячий язык, головка, свиная нога, курица. Кроме того, луковица, две морковины, два побега сельдерея, пучок петрушки. Каждый мясной разруб требует своего времени. Но когда все они сварятся, подчеркивал дед – причем сидевший рядом отец Бергамаски энергично соглашался и кивал головой, – выложив сварившееся мясо на блюдо, необходимо густо осыпать его крупной солью и плеснуть на него черпачок-другой кипящего бульона, чем усилится его вкус и аромат. Гарнира почти не надо. Разве что несколько картофелин. Зато важны подливки и соусы. Виноградная мустарда, хренный соус, мустарда из фруктов с горчицей. И не имеющая равных себе – безапелляционно утверждал дед – зеленая подлива: пригоршня петрушки, четыре анчоусовых филея, хлебный мякиш, наложенная с верхом ложка каперсов, долечка чеснока и сваренный вкрутую желток. Все это должно быть тонко перетерто с олеем и оцтом. Вот они, припоминаю, наивысшие радости моего детского и подросткового возраста. Чего же лучшего можно пожелать?
* * *
Душный полдень. Я над уроками. Падре Бергамаски в молчании сидит за моей спиной. Его рука нажимает на мой затылок. Он нашептывает
Страница 31
что столь набожному, рассудительному отроку, желающему избегнуть соблазнов противоположного пола, он рад был бы предложить не только отеческое дружество, но и теплейшую близость, которую может предоставить мужчина в расцвете лет. С той поры я не позволил ни одному попу к себе прикоснуться. Не значит ли это, однако, что ныне я переряжаюсь в аббата Далла Пиккола, чтобы сам прикасаться к кому-то там?* * *
В мое восемнадцатилетие дед, желавший видеть меня адвокатом (в Пьемонте адвокатом величают любого, кто обучался юриспруденции), смирился с мыслью, что пора уж мне покидать кров отчий. Я отправился в университет. Впервые в жизни я встретился с ровесниками. Но чересчур поздно! Я не сумел преодолеть отчужденность. Не мог понять их придушенные смешки и значительные взгляды, когда заходила речь о женщинах. Они передавали друг другу книги, отпечатанные во Франции, со скандальными гравюрами. Так что я проводил время один и только читал. Мой отец подписывался на парижскую «Конститюсьонель», где печатали поглавно «Вечного жида» Эжена Сю. Я, естественно, накидывался на каждый выпуск. Тут-то и узнал я в подробностях, как коварное Общество Иисуса через самые лютые преступления завладевает чужими наследствами, попирая права неимущих и непорочных. Наряду со враждой к иезуитам это чтение зародило во мне любовь к приключенческим романам. Я нашел на чердаке дома ящик с книгами, которые, думается, были отложены отцом подальше от дедовых глаз. С ними я (точно так же укрывая от деда свой нелюдимый удел) проводил сутки напролет, немилосердно калеча себе зрение. «Парижские тайны», «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо»…
Начался приснопамятный 1848 год. Все студенчество ликовало по поводу восшествия на папский престол кардинала Мастаи Ферретти, папы Пия Девятого, который за два года до того предоставил амнистию по политическим делам. Год начался антиавстрийскими выступлениями в Милане. Горожане даже отказались от курения, дабы побольнее ущемить Имперскую Королевскую казну. По отзывам моих туринских однокашников, главными героями были миланские студиозусы, не отвечавшие на провокации солдат и полицейских офицеров, какими бы ароматными сигарами те ни пытались их раздразнить. В том же месяце заполыхали революции в Королевстве Обеих Сицилий и Фердинанд Второй пообещал народу конституцию. В Париже восставшие массы опрокинули трон Луи-Филиппа и была провозглашена (опять, и клялись, что навсегда!) Республика, отменена смертная казнь за политические преступления, отменено рабство, введены общенародные выборы. Римский папа тем временем, в марте, не только принял конституцию, но и провозгласил свободу печати, а также освободил евреев, жителей гетто, от многих унизительных поборов и треб. Ввел у себя конституцию и великий герцог Тосканский, в то время как Карл-Альберт принял Статут Сардинии и Пьемонта. В довершение к этому революционные движения в Вене, в Богемии и в Венгрии и пять дней и пять ночей миланского восстания привели к уходу из Италии австрийцев. Тут пришло в движение пьемонтское войско, дабы захватить освободившийся Милан и присоединить к Пьемонту. Мои товарищи шушукались также и о появлении какого-то коммунистического манифеста. Выходило, что радуются ему не только студенты, а и рабочие, и люди низкого социального положения. Все были убеждены, что очень скоро последний поп будет повешен на кишках последнего короля. Ну, новости были не только радостными. Карл-Альберт терпел поражения одно за другим. Его считали предателем и миланцы, и все прочие патриоты. Пий Девятый, испуганный убийством одного своего министра, укрылся в Гаэту, под крыло к королю Обеих Сицилий, проявил двурушничество, выказал себя не таким уж либералом, каким он представлялся поначалу. Но в Рим тем временем подоспели и Гарибальди, и люди Мадзини, и в начале следующего года была провозглашена Римская республика. Отец мой в марте окончательно исчез из дому. Мамка Тереза утверждала с убежденностью, что он примкнул к мятежникам в Милане. Но в декабре один приживал-иезуит принес нам сведения о том, что отец достиг мадзинианцев, шедших на штурм Римской республики. Переполошенный дед сыпал отчаянными пророчествами о скором переходе annus mirabilis (прекрасного года) в annus horribilis (ужасный год). В определенном смысле он был прав: пьемонтское правительство упразднило орден иезуитов с конфискацией всех их имуществ и, применяя тактику выжженной земли, распустило также все ордена так называемых иезуитствующих – ордена облатов святого Карла и Пресвятой Марии, а также лигуористов. – Пришествие Антихристово грядет, – сокрушался дед. И конечно, приписывал это махинациям евреев, видя, как сбываются самые мрачные провозвестия Мордухая.
* * *
Дед дал убежище иезуитам, укрывавшимся от народного гнева на время поисков какого-нибудь мирского ордена, куда им примкнуть. В начале 1849 года их наехало множество, нелегальных, бежавших из Рима и рассказывавших ужасающие несчастия.
Падре Пакки. После чтения «Вечного жида» Эжена Сю в падре Пакки мне видело
Страница 32
ь воплощение отца Родена, мерзкого иезуита из книги, жертвующего любой моралью во благо своего ордена. Отчасти я связывал их, потому что падре Пакки скрывал свое иезуитство под светским платьем. На нем был затасканный сюртук с хлопьями перхоти на заклякнувшем поту поверх воротника. Вместо галстука растянутая тряпица. Жилет из черного сукна, сквозь дыры в нем просвечивала бортовка. Крупные штиблеты, обляпанные грязью, оскверняли повсеместно наши изысканные ковры. Лицо он имел испитое, тощее и линялое, волосы пегие и сальные, вечно прилипшие к вискам, черепашьи глаза и фиолетовые поджатые губы.Не довольствуясь тем, что уж и простое его присутствие за столом лишало многих людей аппетита, он еще и подбавлял своими историями, при этом у него были стиль и тон исступленного проповедника. – Друзья мои, голос мой дрожит, однако я вынужден сообщить вам чрезвычайное известие. Парижская проказа рыщет по Италии! Луи-Филипп отнюдь не святой, но все же он давал отпор анархии. А вот теперь недавно в Риме, я вспоминаю, что творилось в Риме… Римляне ли это? Оборванные, расхристанные, преступные, за чарку вина они уступили бы и вход в рай. Это не народ, а плебс. К тому же в Риме они стакнулись с самыми жалкими подонками итальянских и зарубежных городов, с гарибальдийцами, с мадзинианцами, и превратились в слепое орудие всяческого зла. Вы не знаете, сколь неописуемые мерзости творили республиканцы. Врывались в церкви, разрушали урны мучеников и развеивали пепел по ветру, пользовались урнами как урыльниками. Священные престолы алтарей выносили, вымазывали экскрементами. Кинжалами наносили царапины на изваяния Непорочной Девы. Священным изображениям святых выкалывали глаза. Писали углем на образах площадную брань. Священника, запротестовавшего против Республики, затащили в подворотню, пронзили кинжалами, выкололи ему глаза и вырвали язык, выпустили ему кишки, обмотали кишками шею и ими же задушили. И не верьте, что коли Рим освободят (поговаривают уже, что на подходе подмога из Франции), мадзинианцы будут разбиты. Они порасползлись по всем провинциям Италии. Они предусмотрительны и лукавы, они симулянты и притворщики, сметливы, настырны, упорны, настойчивы. Они стекаются на сходки в тайных укрывищах в городах. С несказанным лицемерием просачиваются в тайные кабинеты власти, в полицию, во флот, в военные штабы. – И мой-то сын один из них, – печаловался дед, скорбящий и душой и телом. Тут как раз на стол поступало тушеное мясо в вине бароло. – Этому сыну не дано понять, – не утихал дед, – великолепие говядины, протомленной с луком, морковью, сельдереем, шалфеем, розмарином, лавром, шляпками и черенками гвоздики, корицей, можжевельником, солью, перцем, маслом, олеем и сверх всего – доброй бутылью отличного бароло. Подается с полентой или с картофельным пюре. Бунтуйте, бунтуйте вместо этого… Забыли, в чем вкус-то жизни. Хотите выгнать из Италии папу и впредь питаться буйябесом по ниццской моде, по моде нищего рыбака Гарибальди… Бога забыли совсем, право слово, Бога забыли.
* * *
Бывало, падре Бергамаски переодевался в городское платье и куда-то уезжал, предупреждая, что вернется через несколько дней, но куда и зачем – не говорил. Тогда я пробирался в его комнату, напяливал на себя сутану, уходил искать зеркало, становился перед зеркалом и приплясывал, любуясь на себя, как, прости господи, женщина. Или как подражатель женщине, или как подражатель подражателю женщин. Если окажется, что аббат Далла Пиккола – это я, значит, найдена первопричина и вот они, отдаленные истоки моего театрального любительства!
Я нашел в карманах сутаны деньги (падре явно забыл о них) и решил предаться чревоугодию, а для того пустился в исследование некоторых частей города, которые знал только понаслышке.
Одетый иезуитом – не смущаясь тем, что в оные времена уж сам по себе этот наряд казался вызывающим, – внырнул я в переулки Балона, района в окрестностях Порта-Палаццо, где жило отребье общества. Отсюда выходили на завоевание города по утрам самые отпетые лиходеи. И тем не менее перед праздниками именно рынок у Порта-Палаццо представлял собой самую колоритную картину, где толкались зеваки, жались кухарки около лотошников, служанки стайками впархивали в мясные лавки, мальчишки стояли как вкопанные перед прилавками с халвой. Обжоры закупали кур, дичь и колбасы, в кабаках места не было свободного, развевающейся сутаной я цеплялся за наряды шедших дам и разглядывал краешком глаза, богоугодно потупленного и уставленного на сжатые руки, шейки женщин, шляпки, чепчики, косынки и вуали. Меня дурманило снование дилижансов и карет, крики, вопли и грохотание.
Возбужденный всеми этими дивами, до тех пор укрывавшимися от меня и отцом и дедом (каждым по отдельным соображениям), я добрался до наиболее знаменитого места тогдашнего Турина. В одежде иезуита, наслаждаясь производимым фурором, я вступал в кафе «Бичерин» около церкви Утешения и принимал в руки латунный подстаканник, куда был вставлен стаканчик с бичерином – дивной смесью молока, какао, кофе и
Страница 33
роматных специй. Я не знал, что вскоре бичерин прославится благодаря Александру Дюма. Дюма, кстати сказать, – мой идол. Не знал я этого, но в свои два или три налета на «Бичерин» в этом заветном уголке я все разузнал про райский нектар, похожий на баварский кофе. Но в баварском молоко, шоколад и кофе перемешаны, а в бичерине горячие слои сохраняются разделенными. Можно заказать бичерин pur e fiur, слой кофе на слое молока. Можно заказать pur e barba, это кофе и шоколад. А можно заказать ’n poc ’d tut, это значит – «всего понемножку», горячий бичерин из всех трех слоев.Благодатное это заведение с витриной в раме из чугуна, с зазывными вывесками по бокам, с колонночками и капителями и резными панелями, с зеркалами и мраморными столиками, со стойкой, за которой рядами – разноцветные банки, а в них сорок разновидностей миндального драже совершенно неописуемого запаха… Мне так нравилось просиживать там напролет целое воскресенье. В воскресенье сюда толпами текут все те, кто с утра не завтракал, нельзя завтракать перед причастием, и голодные заворачивали сюда прямо из церкви Утешения. О великом посту бичерин пользуется неописуемым успехом, так как горячий шоколад не записан в перечень скоромных блюд. Лицемеры…
Но даже не беря в расчет утехи в виде кофе-шоколада, вокруг было полно иных сластей. Само уж то, что люди не представляли себе, кто я, давало мне чувство превосходства. Как у владеющего тайным секретом.
* * *
Но я был принужден осторожничать, и ограничивать, и даже вовсе прекратить эти счастливые вылазки – из-за боязни столкнуться с однокашниками, которые явно не считали меня святошей и, напротив, думали, будто я объят тем же, что они, карбонарским рдением. Все эти поборники «Родина, пробудись!» посещали остерию «Золотой рак». На темной и узенькой улице, над еще более неприметной входной дверью помещалась вывеска с изображением позолоченного рака и с надписью Dal Gambero d’Oro, buon vino e buon ristoro («Золотой рак. Питие и смак»). Входили прямо через кухню, она же винный погреб. Ели и пили в испарениях готовки, в колбасно-луковом чаду. Часто играли там в мору. И еще чаще – подпольщики без подполья – целыми ночами воображали себе грядущее народное восстание. У дедушки я приучился к гурманству, а уровень «Золотого рака» был таков, что только при здоровом аппетите можно было проглотить что-то из их харчей. Но общественная жизнь представлялась мне необходимостью, а кратковременное избавление от наших домашних иезуитов – потребностью, поэтому я предпочитал золотораковую бурду в компании товарищей тоскливым ужинам за дедовым столом.
На рассвете мы вываливались из «Рака», пыхая чесноком, пылая в сердце патриотическими восторгами. Уютное покрывало слякоти окутывало нас, помогая укрываться от полицейских соглядатаев. Периодически мы забирались на заречные холмы и глядели на крыши и колокольни города, выникавшие из туманной гущи. В отдалении маячила церковь Суперга на горе, на ней уже отражалось солнце, и это был островной маяк среди моря.
В нашем кругу студиозусов говорили не только о единой Италии. Как положено этому возрасту, очень много говорили о женщинах. Загораясь, каждый рассказывал по очереди о полученной улыбке от незнакомки с чужого балкона. О прикосновении к пухлой ручке на перилах лестницы невзначай. О полуувядшем цветке, выпавшем из молитвенника в церкви и подобранном мгновенно (хвастался лихой рассказчик), когда цветок сохранял еще аромат ладони, вложившей его в задушевную книгу. Я мрачно отмалчивался и слыл между ними несгибаемым и суровым мадзинианцем.
Но однажды вечером самый сальный из моих наперсников поведал нам, что у них на антресолях в сундуке, оказывается, его бесстыдник и кутила родитель содержит кое-какую литературу, называемую у французов «поросятиной». Было немыслимо рассматривать такие книги на запачканном столе в «Золотом раке», так что он решил давать их почитать каждому по очереди. Когда дошло до меня, не отказываться же. Позднею ночью я занялся перелистыванием томиков, кстати, ценных и дорогих, сплошь в сафьяновых переплетах, корешки прошиты жилами и с красными кожаными вставками, золототисненая подвертка, золотые обрезы, золоченые заставки на крышках и в ряде случаев на форзацах. Названия были вроде «Девические ночи» или «О, месье, что будет, ежели нас застанет мой муж!».
Меня трясло, когда я листал их, застывая над гравюрами. Каскады пота струились по шее и щекам. Совсем молодые девушки поднимали там юбки, показывая задние части ослепительной белизны, на потребу похотливых мужчин. Не могу сказать, что беспокоило меня сильнее: эти бессовестные округлости или почти невинные улыбки юных созданий, оборачивающих любопытные головки на осквернителя, скошенными хорошенькими глазками лукаво глядя с улыбкой целомудрия из-под чернокудрых, убранных в боковые бандо аккуратных локонов. Было и пострашнее там. Три дамы на диване расставляли ляжки, обнажая то самое, что должно было бы быть естественной защитой их девственного чрева. Одна из дам сама подсовывал
Страница 34
сь под правую руку всклокоченного мужчины, который тем временем целовал и уестествлял ее смелую соседку, а левой рукой забирался в окутанное тканями декольте третьей сидевшей, раздирая ей корсет и не интересуясь ее вполне оголенным лоном. Дальше. Карикатурное изображение бугристого лица, это был аббат. Рассмотревши попристальнее, можно было понять, что картинка вся выложена из мужских и женских срамных тел, переплетенных на множество ладов, пронизываемых повсюду мощными мужскими членами. Они составляли собой и затылок, где очертания тестикул можно было принять за крупные кольца густозавитой шевелюры.Я не помню уж, чем кончился этот шабаш, когда тайны пола распахнулись мне как нечто потрясающее (в сакральном смысле слова: так потрясают душу перекаты грома, пробуждая, купно с божественным восторгом, страх перед дьявольством и святотатством). Помню только, что, объятый страстью, я повторял сам себе вполголоса, как заклинание, фразу не помню какого религиозного сочинителя, которую мне велел заучить аббат Пертузо: «Вся краса телесная – кожа. Если бы людям видимо было, что там под кожей, всякое зрелище женщины казалось бы тошнотворным. Красота – это скверна, кровь, гуморы и желчь. Подумайте, что накапливается в ноздрях, в глотке, в утробе… Мы, кто брезгуем дотронуться даже самыми кончиками пальцев до блевотины или поноса, как мы можем желать обниматься с наполненным навозом пузырем?»
Может, в те времена я еще верил в божию справедливость, верил в неизбежную кару за ночной разгул и случившееся на следующий день расценил как наказание. Дед был найден мною в кресле, запрокинутым, хрипящим, с мятым листком в руке. Мы вызвали врача, мы подняли с полу письмо и прочитали в нем, что мой отец был смертельно ранен французской пулей, защищая Римскую республику, в июне 1849 года, когда генерал Удино по приказу Луи-Наполеона пошел на Рим – освобождать папский престол от мадзинианцев и гарибальдийцев.
Однакоже дед не умер, хотя было ему за восемьдесят. Не умер, а заперся в спальне в гневном молчании. Не могу сказать, на кого сильней кипел его гнев: на французов и папскую армию, погубивших его сына, на сына, безответственно полезшего в пекло, или же на республиканцев-патриотов, заморочивших его сыну голову. Редко-редко вырывались у него безутешные вздохи, что-то слышалось об ответственности евреев за трагедии, переживаемые Италией, точно как и за те, что обрушились за полвека до того, по вине тех же евреев, на Францию.
* * *
Видно, в память отца я проводил много времени на чердаке возле коробок с его книгами. Перехватил выписанный отцом, но пришедший по почте уже после него роман «Джузеппе Бальзамо» Александра Дюма.
В этом заманчивом сочинении рассказываются, как всем известно, жизнь и приключения Калиостро и затеянная им афера с ожерельем королевы. Он сумел одновременно уничтожить и нравственно и финансово кардинала де Рогана, скомпрометировать августейший двор, выставить на посмешище высший свет. Многие считали, что интрига Калиостро до того подорвала престиж монархии как института, что вследствие общей неуправляемости образовались предпосылки для революции восемьдесят девятого года.
Но Дюма идет дальше. Он видит в Калиостро, то есть в Джузеппе Бальзамо, сознательного стратега, сумевшего организовать не простое мошенничество, а политический заговор, идя на поводу у мирового масонства.
Меня очаровало начало книги. Место действия: Mont Tonnerre, Громовая гора. На левом берегу Рейна, в нескольких милях от бывшей королевской резиденции Вормс, берет начало гряда печальных гор. Королевский трон, Соколиная скала, Змеиный гребень. Над всеми возвышается Громовая. Шестого мая 1770 года (за двадцать лет до пресловутой революции), на закате дня, в то время как солнце опускается на крышу Страсбургского собора и его шпиль делит солнечный диск надвое, кто-то неизвестный скачет из Майнца, потом, в виду самых отчаянных отрогов той самой горы, оставляет коня и карабкается пешком вверх по скату. Тут его принимают неведомые поводыри. Ему обматывают голову мокрой повязкой и через лес выводят на какое-то горное плато, где собрались триста мертвецов, окутанных саванами, каждый с мечом в руке. Там путника подвергают внимательному допросу.
Чего ты хочешь? Видеть свет. Ты готов принести клятву верности? Читайте, я буду повторять, – и в этом духе далее и далее, с целым набором испытаний, как, например: испить из чаши-черепа кровь убитого предателя, выстрелить себе в голову из пистолета для доказательства всепослушания, и прочая белиберда в подобном роде, напоминающая масонскую обрядность нижайшего разбора, известную самым простонародным читателям Дюма.
Испытуемому надоедает все это, и он надменно прерывает собравшихся, дав им понять, что все их ритуалы ему известны и все их фокусы тоже, так что, пожалуйста, вперед давайте без театральных эффектов. Он-де важнее всех их тут собравшихся вместе взятых. Масонское сборище должно признать, что он их главарь, посланный им от Бога.
Дальше он перечисляет одного за друг
Страница 35
м, обнаруживая детальное знание, членов масонских лож Стокгольма, Лондона, Нью-Йорка, Цюриха, Мадрида, Варшавы и ряда азиатских государств. Они, естественно, оказываются там среди тех, кто собрался на плато на этой Громовой горе.Какой же смысл в том, что масоны со всего мира собрались на горе? Незнакомец объясняет. Ему, оказывается, нужны железная рука, огненный меч и алмазные весы, дабы очистить землю от скверны, то есть поразить и уничтожить двух главнейших врагов человеческого рода, а именно трон и алтарь (дед говорил даже, что девизом сквернавца Вольтера было «Раздавите гадину!»). Незнакомец докладывает слушателям, что, как любой уважающий себя некромант того времени, он живет на земле незапамятное количество поколений, превосходит возрастом Моисея, а может быть, Ашшурбанипала, и пришел сейчас с Востока возвестить всем, что настал час роковой. Народы идут нескончаемой вереницей. Движутся навстречу свету. Франция – впередсмотрящий этого похода. В ее-то руки необходимо вложить истинный факел, и она воспламенит мир новым очищающим огнем. Во Франции правит старый развратный король. Ему остались считанные годы. Даже если один из собравшихся на встречу – как потом выясняется, Лафатер, гениальный физиогномист, – замечает, что лица двух юных преемников (будущего Людовика Шестнадцатого и Марии-Антуанетты) кажутся милосердными и добрыми, Незнакомец (в котором уже, надо думать, читатели распознали Джузеппе Бальзамо, хотя в тексте Дюма этот главный герой еще не назван по имени) отвечает, что нет места человеческому благорасположению, когда речь о том, чтоб нести факел прогресса. Через двадцать лет французской монархии следует быть начисто сметенной с лица земли.
На все это в ответ председатели лож от разных стран берут слово по очереди и предлагают поддержку людьми или средствами, ради победы республиканского и масонского движения, во славу девиза lilia pedibus destrue, топчи и уничтожь французскую лилию.
Мне не казалось странным, что столь много шуму – всемирный заговор всех пяти мировых континентов – затеяно кем-то ради того, чтобы внести изменения в параграфы французской конституции. Это казалось естественным, ибо для пьемонтца того времени существовали только Франция плюс, разумеется, Австрия и, может быть, где-то далече – Кохинхина, но ни одной другой заслуживающей внимания страны, за вычетом Папского государства, естественно. Читая описание в романе Дюма и боготворя автора, я гадал, не открыл ли гениальный писатель в этом случае Универсальную Форму любого вообразимого комплота.
Бог с нею, с Громовой горой, с левым берегом Рейна и с историческим периодом, говорил я себе. Обдумаем. Заговорщики собираются со всех концов света, представительствуя от всех ответвлений секты. Соберем их на поляне, или в пещере, или в замке, или на кладбище, или в подземной крипте, в общем – в каком-нибудь месте, где достаточно темно. Один из них пусть скажет речь, в которой выложит все тайные замыслы заговорщиков и их намерение поработить мир.
Меня с рождения окружали люди, страшившиеся козней какого-то скрытого врага. Мой дед подозревал евреев, иезуиты – масонов, мой революционный папаша – иезуитов, монархи всей Европы – карбонариев. Мои товарищи по школе, мадзинианцы, подозревали, что король – пешка в руках священников. Полиция всего мира подозревала баварских иллюминатов. И так далее. Нет счета всем людям, кто опасается, что против них плетутся заговоры. Вот нам готовая форма. Можно заполнять ее по усмотрению, кому чего, по заговору на каждый вкус.
Дюма действительно разбирался в природе человеческой души. О чем помышляет каждый? И тем неотвязней, чем он сам несчастнее и обделеннее жизнью? О деньгах, полученных без труда. О власти (как сладко помыкать себе подобными и изгаляться над ними). О мести за перенесенные обиды (любому в этой жизни пришлось перенести какую-нибудь обиду, хоть небольшую, да болезненную). И вот Дюма в «Монте-Кристо» показывает, как обретается громадное богатство, предоставляющее сверхчеловеческую власть; а также как взыскиваются со старинных врагов все долги, до последней крошечки. Однако, увещает себя каждый, зачем же я не столь удачлив, не могуч? Или не столь могуч, как мне желалось бы? У меня нет благ, которыми пользуются иные. А я имел бы больше оснований. Никто не думает, что он на самом деле не имел бы вовсе оснований. Все ищут виноватых. И Дюма нашел ответ для всех тревожащихся – и для личностей, и для целых народов. Он объяснил причину их невзгод. Оказывается, виноваты во всем те, кто собирались на Громовой горе! Подумавши, собственно говоря, Дюма ничего не открыл. Он только придал повествовательную форму тому, о чем, по рассказам деда, уже намекал аббат Баррюэль. Вот я и убеждался, что продавать идею заговора можно так: не предлагать вообще ничего оригинального, а только и предельно то, что уже известно или могло бы быть известно из других источников. Все верят только тому, что уже знают. В этом и есть красота Универсальной Формы заговора.
* * *
Шел 1855 год. Мне было уже
Страница 36
вадцать пять, я выпустился из университета по юриспруденции и не знал еще, что делать в жизни. Я виделся с прежними товарищами, не воспаляясь от них революционной горячкой. Я скептически предсказывал все их разочарования, причем заранее, за несколько месяцев. И точно: Рим опять отошел под власть папы, Пий Девятый из реформатора сделался худшим ретроградом, чем его предшественники. И рассеялись, из-за невезения или из-за предательства, надежды, что Карл-Альберт станет объединителем Италии. Вдобавок после бурных выступлений социалистов, разбередивших чувства и умы, во Франции все пошло на спад и восстановилась империя. А затем новое правительство Пьемонта, вместо того чтоб объединять Италию, отправило солдат на ненужную войну в Крыму…И даже не было возможности мне продолжать читать те романы, которые повлияли на мои вкусы гораздо больше, чем учителя-иезуиты. Дело в том, что во Франции ученый совет Университета, в состав которого невесть почему входили три архиепископа и один епископ, принял так называемую поправку Риансе, в силу которой облагались налогом по пяти сантимов за номер все газеты и журналы, печатавшие романы-фельетоны с продолжением. Кто не понаторел в издательских делах, мало важности мог бы придать этим известиям, но мы с товарищами сразу поняли суть: этот налог лишал французские газеты возможности публиковать романы. И обличители общественных язв, Сю и Дюма, таким образом оказывались заглушены навеки.
И все-таки дед, все чаще с провалами в сознании, но иногда обретавший былую остроту и понимание окружающего, жаловался, что пьемонтское правительство с тех пор, как стали заправлять им д’Адзелио и Кавур, превратилось в настоящую синагогу Сатаны. – Видишь, парень, – бормотал он, – этот Сиккарди неслучайно ввел закон об отмене прерогатив клира. Отчего он отменил привилегию, что церковь может выступать убежищем? Неужто церковь хуже жандармерии? И зачем ликвидировали процедуру церковного суда для духовных лиц, обвиняемых по статьям уголовного кодекса? Разве церковь не имеет права сама судить своих? Почему упразднили предварительную религиозную цензуру печатных публикаций? Что, теперь каждый может высказываться как хочет, без оглядки на веру и на мораль? А когда наш архиепископ Франзони призвал клир города Турина не повиноваться этим указаниям, его арестовали, объявили преступником, приговорили к месяцу тюрьмы! Теперь мы дожили до запрета нищенствующих и созерцательных орденов, а это шесть тысяч монахов. Их имущество конфискует государство, заявляя, будто это ради выплаты жалованья священникам. Но если посчитать, имущество орденов превосходит в десять, да что там в десять, в сотню раз все жалованья, выплачиваемые в королевстве. Нет, думаю, они пойдут на государственные школы, все эти денежки, на преподавание того, что простецам не надобно. Или на то, чтобы вымащивать дороги и тротуары в гетто! Под вывеской «свободная церковь в свободном государстве»! Причем свобода злоупотреблять дана только государству. Ну нет, я понимаю свободу как право человека следовать Божию завету и зарабатывать себе, в зависимости от поведения, рай или ад. А тут, гляжу, понимается свобода как возможность выбирать что угодно между верованиями и мнениями, какое больше кому нравится, где все они равноправны – и где для государства не имеет значения, масон ли ты, христианин, иудей или магометанин. Не имеет значения, следовательно, и Истина.
– Таким-то образом, сыночек, – из бормотанья деда явствовало, что он не отличает меня от сына, и он скулил и поднывал при разговоре, – и исчезают латеранские каноники, и регулярные каноники святого Эгидия, а также обутые и босые кармелиты, картезианцы, кассинские бенедиктинцы, цистерцианцы, елеонцы, минимы, минориты конвентуальные, минориты-обсерванты, минориты-реформаты, минориты-капуцины, облаты святой Марии, пассионисты, доминиканцы, мерседары, марианцы, ораторианцы вместе с клариссами, распятницами, селестинками, туркинками и баптистками.
Декламируя этот перечень как авемарию, он возбуждался все больше. В конце как будто уже не умел перевести дух и махнул, чтобы несли на стол рагу из зайца (в рецепте шпик, масло, мука, петрушка, пол-литра барберы, порубленный на среднего размера куски заяц, каждый кусок с яйцо, с добавлением печени и сердца, мелкого лука, соли, перца, специй и сахара).
Он почти утешился, но вдруг вытаращил глаза и повалился, рыгнув легонько.
Старые напольные часы пробили полночь. Чересчур долго я писал, не прерываясь ни на миг. И теперь, как ни стараюсь, не умею я припомнить ничего более о годах, которые наступили после смерти деда.
Голова кружится.
5. Симонино – карбонарий
Ночь 27 марта 1897 г.
Я прошу великого прощения, капитан Симонини, за то, что посмел вторгнуться в ваш дневник, каковой, не удержавшись, прочитал. Но не своею волей я пробудился сегодня утром в постели вашей. Вы угадываете, что я являюсь (вернее, по меньшей мере почитаю себя) аббатом Далла Пиккола. Проснувшись не в своей кровати, в квартире, которую не
Страница 37
наю, без каких бы то ни было следов моего пастырского одеяния, как равно и парика, я увидел только накладную бороду у кровати. Откуда эта накладная борода? Мне уже случалось несколько дней назад, пробудившись, не понимать, кто я. С той разницей, что это происходило в моем собственном доме, а ныне – в доме не моем. Глаза, похоже, залеплены гноем. И язык щемит, как будто он был прикушен. Выглянув из окна, я увидел тупик Мобер. Рядом с улицей Мэтра Альбера, где я проживаю. Исследовал весь дом. Похоже, это квартира светского лица, употребляющего накладную бороду, а следовательно (извините за огульные выводы), морально ненадежного. Осмотрел кабинет, убранный претенциозно. На задней стене, за портьерой, нашел дверь и попал в потаенный коридор. Он походил на театральную уборную, во множестве там были костюмы и парики, точно как в месте, где несколько дней назад я обнаружил сутану. Тогда-то мне и стало ясно, что коридор, в свое время пройденный мною в другом направлении, ведет прямо в мое жилище.На столе находились записи, по-видимому набросанные лично мной. Вы даже восстановили когда: 22 марта, в день, подобный сегодняшнему. И тогда и сейчас я с утра терял память. Что же может означать, гадал я, последняя из записей – про Отей и Диану? Кто такая Диана?
Любопытно. Вам подумалось, будто бы вы и я – одно. Но вы помните гораздо больше подробностей своей прежней жизни, нежели я – моей. И причем, как легко видеть из вашего дневника, вы не знаете обо мне ничего. Я же замечаю, что могу припомнить довольно многое, нет, действительно много из происходившего с вами. Именно те эпизоды, которые вы – странное совпадение – пытаетесь восстановить и не можете. Следует ли из этого, что если я припоминаю столь многое о вас, значит, я – вы?
Может быть, нет. Может быть, мы совсем разные существа, которые по какой-то невыясненной причине втянуты в подобие общей жизни. Я, замечу снова, церковное лицо. Может быть, я знаю о вас то, что мне поведано на исповеди? Или я тот, кто занял место доктора Фройда и вырвал из вашего нутра то, что вы тщились сохранить в неприкосновенности?
Как бы ни было, мой священнический долг рассказать вам, что же происходило после смерти вашего достопочтенного дедушки, да приимет Господь его душу праведно и мирно. Ясно, что, приведись ныне умереть вам, Господь столь же мирно и праведно вашу бы душу не принял, потому что, по-моему, не столь уж благостно вы обращались с ближними, и, может быть, за это ваша память теперь отказывается выдавать воспоминания, не делающие вам чести.
* * *
На самом деле Далла Пиккола выдал Симонини только скупые факты, занеся их по порядку на те же листы миниатюрным почерком, столь непохожим на симониниевский. Но именно эти скудные указания послужили Симонини опорой, на которую тот стал цеплять грозди образов, слов и выражений, внезапно выплывавших из его памяти. Повествователь приведет здесь краткое резюме содержания, упростив замысловатый узор подсказок и ответов и избавив Читателя от тона лицемерной добродетели, употребленного аббатом при составлении ханжески выхолощенной повести о деяниях своего альтер эго.
Похоже, что не только разгон босых кармелитов, но и кончина дедушки не слишком впечатлили Симоне Симонини. К деду, кажется, он был привязан, но, проведя детство и отрочество под замком в доме, где будто специально насаждалась угнетенность и подавленность, где и дед, и чернорясные воспитатели постоянно внушали ему недоверие, страх и досаду по отношению к миру, Симонино чем дальше, тем меньше был способен что-либо чувствовать, за исключением сумрачного себялюбия, которое постепенно в нем закрепилось в форме неколебимого философского мировидения.
Распорядившись похоронами – а в них приняли участие самые видные прелаты и самые именитые пьемонтские дворяне, связанные со Старым Режимом, – Симонино увиделся с уполномоченным нотариусом семьи, Ребауденго, который прочел ему завещание: дед все оставил ему. Только вот незадача, продолжал нотариус (казалось – с удовлетворением), поскольку старцем было все заложено и перезаложено, а также из-за неосмотрительности в управлении средствами, имущества практически не оставалось. Даже особняк со всей той мебелью, которой был обставлен, был должен сразу отойти кредиторам, бездействовавшим прежде, из уважения к почтенному и дряхлому собственнику, однако с внуком не имевшим намерения церемониться. – Видите, дорогой адвокат, – добавил нотариус, – в нынешние времена не то что давеча. Теперь и отпрыски почтенных семей порой смиряются перед необходимостью и ищут себе работу. Если бы вашей чести угодно было, хотя оно и не почетно, я предложил бы местечко у меня в конторе, где может быть применен юноша с начальными знаниями права, естественно – при уговоре, что нет возможности положить вам оплату по вашей умственной заслуге, а придется удовольствоваться таким размером жалованья, которое только позволит вам найти себе другое пристанище и жить в нем нешироко, но благоприлично. Симонини сразу же решил, что нотариус прикарманил многие
Страница 38
е части имущества, которые дед полагал утерянными из-за неосмотрительного управления. Но доказательств не существовало. Было надобно выживать. Он подумал, что, работая в близости от нотариуса, однажды ему отплатит и возвратит себе все то, что нотариус незаконно захапал. Так он и зажил в двух комнатах на улице Барбару, бережа средства на редкие походы в обжорки, где собирались его товарищи, и в то же время начал службу у Ребауденго, корыстного, бесчестного и подозрительного, который вмиг бросил величать его «ваша честь» и «господин адвокат», а перешел на обращение «Симонини», давая ясно понять, кто же в деле хозяин. Но через несколько лет этой работы письмоводителем (так называлась его должность), Симонини прошел законную аттестацию и, постепенно завоевывая доверие принципала, уяснил, что делопроизводство сводилось не к тому, что входит в обязанность нотариуса – заверению завещаний, дарительных грамот, актов о купле-продаже и прочих деловых соглашений, – а к засвидетельствованию подлинности дарственных, купчих, завещаний и контрактов, никогда вообще не имевших места. Другими словами, нотариус Ребауденго за разумное вознаграждение писал поддельные документы, при необходимости воспроизводя почерки и приобщая показания свидетелей, а их полно было в близлежащих кабаках.– Заруби себе на носу, разлюбезный Симоне, – поучал его нотариус, давно перешедши на «ты», – я не делаю подлогов, а делаю новые копии истинных документов, которые утратились или по нелепой случайности не были никогда написаны, однако вполне могли бы быть написаны. Фальшивкой было бы, напиши я метрику, из которой бы явствовало, прошу прощения за пример, что ты рожден от потаскуньи из Одаленго-Пикколо (и он хихикал над собственным оскорбительным остроумием). Никогда бы не пошел я на подобное преступление, поскольку честный человек. Однако ежели какой-нибудь твой враг, это я просто предполагаю, зарился бы на твое имущество и ты бы знал, что он совершенно точно рожден не от отца твоего и не от матери твоей, а от непристойной женщины из Одаленго-Пикколо, однако он укрыл свое законное свидетельство о крещении, чтоб покуситься на твое добро, и ты бы обратился ко мне, прося восстановить эту пропавшую грамоту, дабы дать по рукам злоумышленнику, я согласился бы, иными словами, поддержать истину. И засвидетельствовал бы то, о чем известно, что оно истинно, нисколько бы не погнушавшись.
– Да как же знать вам, от кого доподлинно родился этот господин?
– А от тебя! Ты же его хорошо знаешь.
– И вы бы мне поверили?
– Я верю своим клиентам, поскольку у меня клиенты исключительно честные люди.
– А ежели клиент у вас солжет?
– Солжет, так это значит – на совести клиента, не на моей. Начни я размышлять о каждом, может ли он мне солгать, тогда мне следует закрыть свою практику, она ведь основана на доверии. Симоне остался не в полном успокоении относительно чистоплотности работы нотариуса Ребауденго, но, будучи теперь допущен до тайн ремесла, участвовал в сотворении подделок, в скором времени превзойдя учителя и открыв в себе необычайные каллиграфические способности. Тем временем нотариус, как будто обинуясь после вышеприведенной беседы, а может быть, учуяв основную слабость своего сослужителя, водил Симонино по роскошным ресторанам, таким, например, как «Иль Камбио» (завсегдатаем которого был сам Кавур!), где они дегустировали самую лучшую финанцьеру, а финанцьера – это целая симфония из петушьих гребешков, черев, телячьего мозга и тестикул, бычачьего филея, белых грибов, все это с полустаканом марсалы, мукою, солью, олеем и маслом. Подкислено совсем чуть-чуть, алхимической толикою оцта. По правилам, угощаться финанцьерой надлежало в рединготе или же в долгополом сюртуке, служебном одеянии финансистов. Наверное, Симонино, даром что имел героического отца, сам не чувствовал в себе жилки щепетильной и доблестной, поэтому он за подобное угощение был готов служить нотариусу Ребауденго хоть до смерти – его, нотариуса, смерти, как вскорости мы с вами увидим, еще чего! не собственной же.
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Примечания
1
Г. Мюллер, «Католическая церковь и национал-социализм», документы 1930–1935, Мюнхен, 1963, с. 118.


