Читать онлайн “Жизнь и приключения Мартина Чезлвита” «Чарльз Диккенс»
- 02.02
- 0
- 0
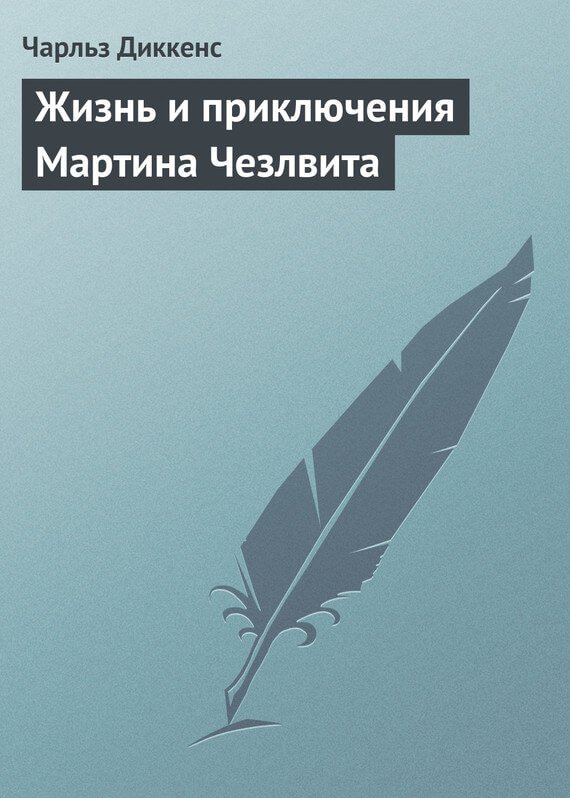
Страница 1
Жизнь и приключения Мартина ЧезлвитаЧарльз Диккенс
«Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (1843) – роман, написанный после посещения Диккенсом Америки. Основой сюжета явилось критическое изображение американской действительности. События романа развиваются вокруг борьбы за наследство богача Мартина Чезлвита-старшего. С глубоким мастерством раскрыта в поведении толпы жадных родственников и предприимчивых авантюристов деморализующая психология, рождающая и преступления, и отвратительное лицемерие, и откровенный эгоизм.
Чарльз Диккенс
Жизнь и приключения Мартина Чезлвита
Предисловие
Что кажется преувеличением одному разряду умов и мнений, то другим воспринимается как очевидная истина. То, что обычно называют проницательностью, помогает различать множество характерных черт и деталей там, где человек близорукий не увидит ровно ничего. Я иногда задаю себе вопрос: уж не в этом ли разница между некоторыми писателями и некоторыми читателями? Верно ли, что именно писатель берет слишком яркие краски, или же бывает и так, что глаз читателя плохо различает цвета?
Впрочем, по этому вопросу у меня имеются практические наблюдения, представляющие больше интереса, чем только что изложенная теория. А именно: мне ни разу не удавалось взять героя прямо из жизни, без того чтобы один из двойников этого героя не спросил меня недоверчиво: «Нет, правда, неужели вы действительно видели такого, как он?»
Думаю, что все отпрыски семейства Пексниф, обитающие на земле, совершенно согласны в том, что мистер Пексниф есть преувеличение, что такого лица никогда не существовало. Я не собираюсь спорить по этому поводу со столь могущественной и высокопоставленной кликой, скажу лишь несколько слов о характере Джонаса Чезлвита.
Я полагаю, что подлая грубость и жестокость Джонаса Чезлвита была бы неестественной, если бы в его воспитании с самого детства, в правилах и примерах, которыми он всегда руководился, не было всего того, что порождало и поощряло эти отвратительные пороки. Но при таком происхождении и воспитании, когда его с колыбели поощряли во всем, что отталкивает людей, когда его хитрость, вероломство и скупость превозносили и оправдывали, Джонас представляется мне законным потомком отца, на голову которого пали грехи сына. И я смею утверждать, что возмездие, постигшее старика в его позорной старости, есть не только акт поэтического правосудия, но и прямая правда, логически доведенная до конца.
Я считаю нужным дать это пояснение в интересах читателя, который задумается над этой книгой, потому что в жизни мы часто не даем себе труда исследовать причины преступлений и пороков, обсуждаемых всеми. То, что является верным по отношению к отдельным семьям, остается верным и по отношению ко всему человеческому обществу. Что посеешь, то и пожнешь. Пусть читатель войдет в детское отделение любой тюрьмы в Англии или, прибавлю с сожалением, многих работных домов и решит сам, выродки ли это позорят наши улицы, населяют наши плавучие тюрьмы и исправительные дома и переполняют наши каторжные колонии, или это люди, которых мы сознательно обрекли на нищету и погибель.
Американская часть книги является карикатурой лишь постольку, поскольку она показывает (за исключением мистера Бивена) главным образом то, что достойно осмеяния в американском характере, – ту сторону, которая двадцать четыре года тому назад бросалась в глаза по преимуществу и которую скорее всего должны были разглядеть такие путешественники, как молодой Мартин и Марк Тэпли. А так как я в своих книгах никогда не выказывал склонности смягчать то, что дурно и достойно осмеяния у меня на родине, то я надеялся, что добродушный парод Соединенных Штатов в большинстве своем не осудит меня, если я и для чужого края не отступлю от своего обыкновения. Мне приятно думать, что этот великий народ не обманул моих ожиданий.
Когда эта книга впервые вышла из печати, некоторые авторитетные лица дали мне понять, что Уотертостская ассоциация и ее ораторское красноречие совершенно неправдоподобны. Поэтому я считаю нужным подчеркнуть, что вся эта часть переживаний Мартина Чезлвита есть буквальный пересказ протоколов публичных заседаний в Соединенных Штатах (а особенно протоколов некоей Водочно-винной ассоциации), которые печатались в «Таймсе» в июне – июле 1843 года, – приблизительно в то время, когда я писал эти главы моей книги, – и которые, вероятно, хранятся в архиве «Таймса».
Во всех моих писаниях я никогда не упускал случая указать на те антисанитарные условия, в которых живет наша беднота. Двадцать четыре года тому назад миссис Сара Гэмп была типичной сиделкой для неимущих больных. Лондонские больницы считались во многих отношениях почтенными учреждениями, но сколько же там было недостатков! Одним из примеров творившихся в них безобразий служит, я думаю, то, что миссис Бетси Приг была образцовой больничной сиделкой, а также то, что больницы, при наличии специальных средств и фондов, целиком и полностью предоставляли частной инициативе и благотворител
Страница 2
ности воспитывать и совершенствовать Эту категорию лиц; потом они стали много лучше благодаря стараниям некоторых добрых женщин.Глава I
вступительная, где речь идет о родословной семейства Чезлвитов
Так как ни одна леди и ни один джентльмен из числа хоть сколько-нибудь претендующих на благовоспитанность не удостоят своим вниманием семейство Чезлвитов, не уверившись наперед в глубокой древности их рода, то нам чрезвычайно приятно сообщить, что они несомненно происходят по прямой линии от Адама и Евы и с незапамятных времен имели самое близкое отношение к сельскому хозяйству. Если бы недоброжелатели и завистники вздумали утверждать, что тот или другой Чезлвит того или другого поколения слишком уж занесся и возгордился своим происхождением, то такую слабость со стороны обвиняемого следовало бы не только извинить, но и считать похвальной, принимая во внимание неизмеримое превосходство этой семьи над всем остальным человечеством в отношении древности рода.
Интересно отметить, что если – в древнейшей фамилии, память о которой сохранила нам история, имелись убийца и бродяга[1 - Убийца и бродяга – намек на библейское предание о Каине, убившем своего брата Авеля и осужденном за это богом на вечные скитания.], то и в истории других древних фамилий мы неизменно встречаемся с бесчисленными повторениями Этих двух человеческих разновидностей. Можно считать общим правилом, что чем длиннее ряд предков, тем больше в семейной истории убийств и грабежей, ибо в старину эти два вида развлечений, сочетавших здоровый моцион с верным средством поправить расстроенное состояние, являлись одновременно и благородным промыслом и полезным отдыхом для знати нашей страны.
А посему весьма утешительно и отрадно вспомнить, что во все периоды нашей истории Чезлвиты принимали деятельное участие в человекоубийственных заговорах и кровопролитных схватках. Имеются также свидетельства о том, что, закованные с головы до ног в надежную стальную броню, они весьма мужественно посылали одетых в кожаные куртки солдат на верную смерть, после чего в самом приятном расположении духа возвращались домой, к родным и знакомым.
Не подлежит никакому сомнению, что по крайней мере один из Чезлвитов пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем[2 - …пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем. – В 1066 году Вильгельм, герцог Нормандии, во главе нормандских феодалов завоевал Англию; с 1066 по 1087 год – король Англии.]. Однако, надо полагать, впоследствии этот монарх не очень-то благоволил к их благородному предку, ибо ни из чего не видно, чтобы семейству Чезлвитов были пожалованы во владение земельные угодья. А между тем хорошо известно, что, награждая этого рода собственностью своих фаворитов, знаменитый норманн выказывал ту изумительную щедрость и признательность, какими обыкновенно отличаются великие мира сего, когда раздают направо и налево чужое добро.
Быть может, здесь нам следовало бы остановиться и поздравить себя с теми неистощимыми сокровищами храбрости, мудрости, красноречия, доблести, знатности и благородства, какими обогатилась Англия после вторжения норманнов; добродетелями, к которым генеалогия каждого старинного рода прибавляет немалую долю и которые вне всякого сомнения были бы ничуть не меньше и породили бы совершенно такой же длинный ряд благородных отпрысков, кичащихся своим происхождением, даже и в том случае, если бы Вильгельм Завоеватель оказался Вильгельмом Завоеванным: от такой перемены, можно сказать с полной уверенностью, решительно ничего не изменилось бы.
Нет ни малейшего сомнения в том, что один из Чезлвитов участвовал в Пороховом заговоре[3 - …участвовал в Пороховом заговоре… – Пороховой заговор (1605) был организован группой дворян-католиков (Роберт Кетсби, Гай Фокс и др.), замышлявших убийство короля Иакова I Стюарта и его министров. Сигналом к общему выступлению должен был послужить взрыв парламента. Заговорщикам удалось спрятать в подвале под зданием парламента бочки с порохом, но в последний момент планы их были раскрыты, главари схвачены и казнены.], а может быть, и сам архипредатель Фокс[4 - …сам архипредатель Фокс. – Речь идет о Гае Фоксе, офицере, которому было поручено поджечь бочки с порохом, заложенные под здание парламента. Был схвачен, подвергнут пыткам и казнен.] был отпрыском их замечательного рода; это весьма возможно, если предположить, что один из Чезлвитов предыдущего поколения эмигрировал в Испанию, где и сочетался браком с испанкой, от которой имел потомство – единственного сына с оливковым цветом лица. Столь вероятное предположение подкрепляется, если не подтверждается безусловно, одним обстоятельством, не лишенным интереса для всех изучающих развитие наследственных склонностей у лиц, коим эти склонности передались без их ведома. Известно, что в наше время многие Чезлвиты, потерпев неудачу на других поприщах, занялись торговлей углем, без всяких на то разумных оснований и без малейшей надежды разбогатеть, и месяц за месяцем угрюмо созерцают свой более чем скромный запас
Страница 3
товара, не имея случая даже поторговаться с покупателем. Поразительное сходство между этим занятием и тем, какому предавался великий предок Чезлвитов под сводами парламентских подвалов в Вестминстере, так явно и многозначительно, что не нуждается в комментариях.Кроме того, устными преданиями семейства Чезлвитов установлено вполне точно, хотя неясно, к какому периоду их семейной истории это относится, что существовала некогда особа такого вспыльчивого характера и до такой степени привыкшая к обращению с огнем, что ее прозвали «выжигой», каковое прозвище, или кличка, сохранилось за нею и до сего дня в фамильных легендах. Не подлежит, разумеется, никакому сомнению, что это и была испанская сеньора – матушка Чезлвита-Фокса.
Но имеется и еще одно доказательство, прямо говорящее о тесной связи Чезлвитов с этим памятным в английской истории событием, – доказательство, которое не преминет убедить даже умы, устоявшие перед вышеприведенными догадками (если таковые найдутся).
Несколько лет тому назад во владении одного всеми уважаемого и во всех отношениях почтенного и благонамеренного члена семьи Чезлвитов (ибо даже злейший враг не мог бы усомниться в его богатстве) находился потайной фонарь несомненно древнего происхождения, тем более примечательный, что и по виду и по форме он нисколько не отличался от тех, какие употребляются в наше время. Так вот, этот джентльмен, ныне покойный, всегда готов был поклясться и не раз утверждал самым категорическим образом, что его бабушка нередко говаривала, созерцая эту почтенную реликвию: «Да-да-да! Вот этот самый фонарь нес мой правнук пятого ноября, когда был Гаем Фоксом»[5 - …пятого ноября, когда был Гаем Фоксом. – Пятого ноября в память раскрытия Порохового заговора ежегодно совершалась торжественная церемония – подвальные помещения парламента обходила стража с зажженными факелами. В этот же день по улицам Лондона носили чучело Гая Фокса, которое затем сжигали.]. Эти замечательные слова произвели на внука (как и следовало ожидать) сильное впечатление, и у него вошло в привычку повторять их довольно часто. Точный смысл этих слов и вывод, который надлежит из них сделать, в высшей степени убедительны и неотразимы. Старушка, наделенная от природы решительным характером, была тем не менее слаба здоровьем и забывчива; известно, что она нередко все путала или, во всяком случае, заговаривалась, чему бывают подвержены старые и болтливые люди. Незначительная очень незначительная обмолвка, которую можно усмотреть в ее словах, очевидна, и ее ничего не стоит исправить: «Да-да-да! – говорила она, и можно заметить, что Эти начальные слова не нуждаются ни в каких поправках. – Да-да-да! Этот самый фонарь нес мой прадед, – не правнук, что лишено смысла, а прадед, – пятого ноября. Он-то и был Гай Фоке». Таким образом, у нас получается связное, естественное и ясное замечание, вполне сообразное с тем, что нам известно об этой старушке. В нем так явно подразумевается именно этот смысл и никакой другой, что едва ли даже стоило бы приводить анекдот в первой редакции, если бы он не доказывал, чего можно добиться не только в исторической прозе, но и в поэтических творениях, когда со стороны комментатора приложено сколько-нибудь сообразительности и труда.
Говорят, будто за последнее время не сыщется ни одного примера, чтобы какой-нибудь Чезлвит был на короткой ноге со знатью. Но и тут глумливые клеветники, чьими злобными мозгами порождены все эти жалкие измышления, немеют, пораженные силой доказательств. Ибо у многих членов семейства Чезлвитов хранятся письма, из коих явствует черным по белому, что некий Диггори Чезлвит имел обыкновение «обедать с герцогом Гэмфри»[6 - …«обедать с герцогом Гэмфри»… – значит совсем не обедать (английская поговорка).]. Он был таким частым гостем за столом этого вельможи, и его милость, должно быть, так навязывался со своим гостеприимством, что Диггори, как видно, стеснялся и неохотно там бывал, ибо писал своим друзьям в том смысле, что ежели они не пришлют с подателем сего письма того-то и того-то, ему ничего другого не останется, как опять «отобедать с герцогом Гэмфри», причем изъявлял свое пресыщение светской жизнью и аристократическим обществом в самых недвусмысленных и сильных выражениях.
Носились слухи, – и нет надобности говорить, что они происходили из тех же низменных источников, – будто бы один из Чезлвитов, чье рождение, надо сознаться, до некоторой степени облечено тайной, был весьма невысокого и даже темного происхождения. Где же доказательства? Когда сын этого Чезлвита, которому отец, видимо, еще при жизни открыл тайну своего рождения, лежал на смертном одре, ему задали следующий вопрос самым официальным, торжественным и решительным образом:
«Тоби Чезлвит, кто был твой дедушка?» На что тот, находясь при последнем издыхании, ответил не менее официально, торжественно и решительно: «Черт-те-кто!», каковой ответ был тут же записан и засвидетельствован шестью лицами, причем каждый из свидетелей проставил полностью свое имя, фамилию и адрес. Можн
Страница 4
, разумеется, сказать, – да некоторые и говорили, ибо нет пределов человеческому злословию, – что таких имен нету и что даже среди титулов, которые давно уже сошли со сцены, нельзя найти ни одного сколько-нибудь похожего хотя бы по звуку. Но что же из этого следует? Если отбросить теорию, выдвинутую некоторыми доброжелательными, но заблуждающимися людьми, будто дедушка Тоби Чезлвита, судя по имени, был скорее всего китайский мандарин (что совершенно не выдерживает критики, ибо нет даже намека на то, что его бабушка выезжала когда-нибудь из Англии или что какой-нибудь знатный китаец приезжал в Англию незадолго до рождения его отца, кроме тех китайцев, что выставлены в чайных лавках и уж никоим образом не могут быть приняты в расчет), – если отбросить эту гипотезу, неужели не ясно, что мистер Тоби Чезлвит или недослышал, как зовут его дедушку, или позабыл его имя, или же перепутал, как оно произносится. И что даже в то близкое к нам время, о котором идет речь, Чезлвиты находились в морганатическом родстве, так сказать с левой стороны, с какой-то неизвестной нам, но высокопоставленной и знатной фамилией?Из документов, до сих пор хранящихся в семейном архиве, легко установить, что еще сравнительно недавно, во времена упомянутого Диггори Чезлвита, один из членов семейства добился весьма влиятельного положения и разбогател. В тех обрывках его переписки, которых не поточила моль (а моль по праву может быть названа главным архивариусом мира насекомых, – столько она пожирает всяких актов и документов), мы находим постоянные ссылки на какого-то «дядюшку»[7 - «Дядюшка» – в английском просторечии – ростовщик.], от которого он, по-видимому, ожидал большого наследства, ибо всячески добивался его расположения, постоянно поднося ему книги, часы, столовое серебро, золотые кольца и другие ценные предметы. Так, например, он пишет брату насчет какой-то соусной ложки, принадлежавшей этому брату, которую он, Диггори, по-видимому, взял у того на подержание или иным образом присвоил: «Не сердись, у меня ее нет – отнес к „дядюшке“. В другом случае он почти в тех же выражениях говорит о детской серебряной кружечке, которую ему поручили снести в починку. В третьем случае он пишет: „Я перетаскал к любезному „дядюшке“ все, что у меня было“. А что он имел обыкновение подолгу гостить у этого дядюшки и даже совсем к нему переселялся, видно из следующей фразы: „Кроме того, что на мне надето, все мое платье находится сейчас у „дядюшки“. Покровительство и заботы дядюшки простирались, по-видимому, слишком далеко, ибо его племянник пишет: „Уж очень берет большой интерес“, „слишком большой“, „ни с. чем несообразный“, и тому подобное. Не заметно, однако же (и это довольно странно), чтобы „дядюшка“ доставил племяннику какую-нибудь выгодную должность при дворе или еще где-нибудь, или же добыл ему какое-нибудь отличие, кроме разве того, которое заключается в лицезрении столь знатной особы да приглашений на званые вечера, а может быть, и балы, о роскоши и великолепии которых племянник распространяется весьма высокопарно, то и дело поминая какие-то «золотые шары“[8 - «Золотые шары». – Три золотых шара были изображены в гербе семьи Медичи. Банкиры Медичи были одновременно и крупными ростовщиками. Впоследствии золотые шары стали украшать вывески лавок ростовщиков.].
Нет надобности множить доказательства высокого общественного положения и значительности Чезлвитов в разные периоды их истории. Если б имелись какие-нибудь разумные основания предполагать, что понадобятся и еще доказательства, их можно было бы громоздить одно на другое без конца, так что вырос бы целый Монблан свидетельских показаний, которым был бы задавлен и обращен в лепешку даже самый отъявленный скептик. Но так как и без этого набрался порядочный холмик, достойно возвышающийся над семейной могилой, то настоящая глава на этом поставит точку, добавив только, вместо последней лопаты земли, что очень многие Чезлвиты как мужского, так и женского пола, судя по письмам их собственных мамаш, имели точеные носы, очаровательные подбородки, сложение, достойное резца ваятеля, редкого изящества руки и ноги и чистые лбы с такой необычайно прозрачной кожей, что видны были даже синие жилки, разбегавшиеся во все стороны ручейками нежнейшей лазури. Уже сам по себе этот факт, хотя бы он был единственным, должен окончательно разрешить и уничтожить всякие сомнения на сей счет, ибо известно как нельзя лучше из авторитетных трудов, трактующих эту материю, что все вышеупомянутые приметы, а особенно точеные носы, неизменно сопутствуют персонам самого высокого ранга и бывали подмечены единственно у них.
После того как мы установили, к полному своему удовлетворению (а следовательно, и к совершенному удовольствию читателей), что Чезлвиты действительно были высокого происхождения и пользовались в разное время таким влиянием, какое не может не сделать знакомство с ними лестным и желательным для всякого здравомыслящего человека, нам надлежит приступить к делу вплотную. И, доказав, что Чезлвиты, в силу древн
Страница 5
сти их фамилии, немало потрудились над созданием и приумножением человеческого рода, мы должны будем со временем признать, что те из членов семейства, которые появятся в нашем повествовании, и доныне имеют своих двойников и преемников в окружающем нас мире. Пока же мы удовольствуемся тем, что сделаем несколько замечаний самого общего характера по следующему поводу: во-первых, можно с уверенностью утверждать, нисколько не разделяя учения Монбоддо[9 - Учение Монбоддо. – Джеймс Бернетт Монбоддо (1714–1799) – шотландский юрист и ученый, один из зачинателей научной антропологии.] насчет того, будто предки человека были когда-то обезьянами, что люди способны подчас выкидывать самые странные и неожиданные штуки; во-вторых (но опять-таки независимо от теории Блюменбаха[10 - …независимо от теории Блюменбаха… – Блюменбах Иоганн Фридрих (1752–1840) – немецкий физиолог и антрополог. Выдвинул теорию о делении человечества на пять рас: кавказскую, монгольскую, малайскую, американскую и африканскую, или эфиопскую.] о том, будто потомки Адама наделены многими такими качествами, какие из всех божьих созданий наиболее приличествуют свиньям), что некоторые люди отличаются необыкновенной способностью думать только о самих себе.Глава II,
где читателю представляют некоторых лиц, с коими он может, если угодно, познакомиться ближе
Стояли последние дни поздней осени, и заходящее солнце, пробившись, наконец, сквозь пелену тумана, застилавшую его с самого утра, ярко засияло над маленьким вильтширским селением, лежащим на расстоянии хорошей прогулки от славного старого города Солсбери[11 - Солсбери – старинный город в Южной Англии, главный город графства Вильтшир. В Солсбери находится один из интереснейших памятников английской ранней готики: старинный собор постройки XIII века, увенчанный шпилем высотой в 400 футов.].
Подобно неожиданному проблеску памяти или чувства, озаряющему душу старика, оно залило светом окрестные луга, воскресив их былую свежесть и юность. Мокрая трава засверкала в его лучах; уцелевшие местами остатки зелени на живых изгородях, там, где последние листья еще держались, храбро сопротивляясь натиску резких ветров и ранних морозов, ожили и посветлели; ручей, весь день угрюмый и тусклый, просиял веселой улыбкой; легковерные птицы защебетали и зачирикали среди голых ветвей, словно надеясь на то, что зиме пришел конец и весна уже наступила. Флюгер на остроконечном шпиле старинной церкви заблестел на своем высоком посту, сочувствуя общей радости, а из осененных плющом окон устремились к полыхающим небесам такие потоки огня, словно в этих мирных домишках год за годом накапливались все тепло и все румяные краски лета.
Даже те осенние приметы, которые особенно настойчиво твердили о близком приходе зимы, не омрачали общей картины и в этот час не бросали печальной тени. Опавшие листья, которыми была устлана земля, пахли приятно и навевали чувство покоя, смягчая дальний грохот колес и топот копыт и гармонически сливаясь с плавными движениями пахаря, бросавшего зерно в борозды, и с бесшумным ходом плуга, который, подымая пласты жирной, черной земли, укладывал их красивым узором по щетинистому жнивью. Кое-где на неподвижных ветвях деревьев гроздями кораллов краснели осенние ягоды, словно в сказочном саду, где вместо плодов растут самоцветы; одни деревья уже сбросили свой наряд, и каждое из них стояло посреди вороха ярко-красных листьев, глядя, как эти листья постепенно истлевают; другие еще сохраняли свой летний убор, но вся листва покоробилась и свернулась, как от огня; вокруг одних деревьев румяными грудами были сложены яблоки, созревшие этим летом; другие, вечнозеленые крепыши, при всем своем здоровье смотрели мрачно и сурово, словно свидетельствуя о том, что долговечность дается природой отнюдь не самым нежным и ветреным ее любимцам. Но и здесь, в их темных ветвях, косые лучи пролегли дорожками красноватого золота, а сияние заката, пронизывая густую чащу ветвей, казалось еще ярче и только усиливало блеск угасающего дня.
Еще минута, и его сияние померкло. Солнце село за темными длинными грядами невысоких холмов и туч, возводивших на западе облачный город – стена за стеной и башня за башней; свет угас, сверкающая церковь потемнела и остыла; ручей уже не сиял улыбкой; птицы умолкли, и все вокруг стало по-зимнему мрачно.
Поднялся к тому же ночной ветер, и верхние ветви деревьев заметались и заплясали под его стонущий напев, стуча друг о дружку, словно кости скелета. Опавшие листья уже не лежали на земле, а кружились, гонимые ветром, ища, куда бы укрыться от его холодного дыхания; пахарь выпряг лошадей и, склонив голову, проворно зашагал домой рядом с ними; в окнах домишек замигали огоньки, переглядываясь с темнеющими полями.
Тут-то и выступила деревенская кузница во всем своем блеске. Дюжие мехи ревели «хо-хо!», раздувая яркий огонь, а тот в свою очередь ревел, приглашая блестящие искорки на веселую пляску под радостный стук молотов о наковальню. Раскаленное докрасна железо тоже искрилось напе
Страница 6
егонки с ними, щедро рассыпая во все стороны золотые брызги. Силач кузнец со своими подручными ковал так лихо, что развеселилась даже печальница-ночь и посветлел ее темный лик, заглядывавший с любопытством то в окна, то в двери через плечи десятка зрителей. А эти праздные зеваки стояли словно околдованные и, изредка оглядываясь назад, в темноту, только расставляли поудобнее на подоконнике ленивые локти да наклонялись чуть побольше вперед, словно прилипли к месту, словно они для того только и родились, чтобы толпиться вокруг пылающего очага, в подражание сверчкам.Как только не совестно было ветру сердиться! Он уже не вздыхал, а бушевал вокруг веселой кузницы, хлопал дверью, ворчал в трубе, словно выговаривая работягам-мехам за то, что они пляшут под чужую дудку. И какой же он оказался пустой болтун; сколько ни шумел, ничего не мог поделать с двумя охрипшими дружками, разве что от его воркотни они запели еще громче и веселей, и оттого огонь в горне запылал еще ярче, а искры заплясали еще бойчее; под конец они закружились так бешено, что злюке-ветру стало невмоготу; он с воем кинулся прочь и так хватил по дороге старую вывеску перед дверью трактира, что Синий Дракон окончательно взвился на дыбы и еще до наступления рождества совсем вылетел прочь из своей покривившейся рамки.
Что за мелочное тиранство со стороны почтенного ветра вымещать свою злобу на таких слабых, ни в чем не повинных созданиях, как осенние листья; однако этот самый ветер, уже сорвав мимоходом сердце на Драконе и разобидев его, подхватил с земли целую охапку листьев и так расшвырял и рассеял их, что они полетели очертя голову кто куда, перекатываясь друг через дружку, и то становились на ребро, крутясь без устали, то в страхе взлетали на воздух и с отчаяния выкидывали всякие необыкновенные антраша. Но и этого было мало разбушевавшемуся ветру: не довольствуясь тем, что сорвал их с места, он накидывался на маленькие стайки листьев, загонял их под пилу, под доски и бревна на лесопилке и, развеяв опилки по воздуху, искал, нет ли под ними листьев, а если находил – фью-у-у! – и гонялся-же он за ними, ну просто преследовал по пятам!
Перепуганные листья от всего этого только летели быстрее, и гонка была бешеная; они попадали в такие места, откуда было не выбраться и где тиран-ветер крутил и вертел их сколько его душе было угодно; они забивались под застрехи, нетопырями распластывались по стогам сена, залетали в открытые окна, прятались под живые изгороди – словом, были готовы забраться куда угодно, лишь бы спастись. Но самую отчаянную штуку они выкинули, воспользовавшись тем, что неожиданно открылась парадная дверь в доме мистера Пекснифа; они ворвались в сени, куда проник за ними и ветер; а он, едва обнаружив, что дверь с черного хода тоже открыта, взял да и задул свечу в руке мисс Пекспиф и с такой силой хлопнул парадной дверью навстречу входящему мистеру Пекснифу, что сшиб его с ног, и тот во мгновение ока очутился на спине перед собственным крыльцом. Зятем, наскучив вздорными шалостями, разбойник-ветер торжествующе умчался прочь, посвистывая над болотами и лугами, над холмами и равнинами, пока не долетел до моря, где повстречался с другими ветрами такого же буйного поведения и прогулял с ними всю ночь напролет.
Тем временем мистер Пексниф, получив от предпоследней ступеньки крыльца такую затрещину, от каких пострадавший обыкновенно видит огни несуществующей иллюминации, лежал неподвижно, уставясь на собственную парадную дверь. Надо полагать, что вид этой двери особенно наводил на размышления, не в пример прочим парадным дверям, ибо мистер Пексниф лежал что-то уж очень долго, по-видимому не испытывая никакого желания удостовериться, расшибся он или нет; даже когда мисс Пексниф спросила через замочную скважину: «Кто там?» – таким пронзительным голосом, каким мог бы говорить сорванец-ветер, – мистер Пексниф не ответил ей ни слова; даже когда мисс Пексниф опять открыла дверь и, загородив свечу рукой, стала смотреть везде – и вокруг мистера Пекснифа, и около него, и поверх него, и куда угодно, только не на него, – он не издал ни звука и ни малейшим намеком не выразил желания, чтобы его подобрали.
– Вижу, все вижу! – кричала мисс Пексниф воображаемому озорнику, прятавшемуся за углом. – Вы у меня получите, сударь!
И все-таки мистер Пексниф не произнес ни слова, может быть потому, что уже получил.
– Ага, опомнился теперь? – кричала мисс Пексниф. Она крикнула это наудачу, но ее слова пришлись как нельзя более кстати, ибо мистер Пексниф, перед которым один за другим быстро гасли огни вышеупомянутой иллюминации и число медных ручек на двери (вертевшихся перед его глазами совершенно немыслимым образом) сократилось с четырех или пяти сот до каких-нибудь двух десятков, теперь действительно приходил в себя, и даже можно было сказать, что опомнился.
Прокричав визгливым голосом предупреждение насчет тюрьмы и полиции, а также насчет колодок и виселицы, мисс Пексниф собиралась уже запереть дверь, когда мистер Пексниф, все еще лежавший перед
Страница 7
рыльцом, приподнялся на локте и чихнул.– Это его голос! – воскликнула мисс Пексниф. – Это он, это наш папаша!
Услышав ее восклицание, вторая мисс Пексниф выскочила из гостиной, и обе они, выкрикивая что-то бессвязное, совместными усилиями поставили мистера Пекснифа на ноги.
– Папа! – кричали они в один голос. – Папа! Скажите же хоть что-нибудь! Ах, какой у вас ужасный вид, бедный папа!
Но поскольку внешний вид джентльмена, особенно в таких обстоятельствах, отнюдь не находится в его власти, мистер Пексниф продолжал смотреть на них, выпучив глаза и разинув рот, наподобие деревянного щелкунчика с отвисшей нижней челюстью; и так как шляпа с него слетела, лицо было покрыто бледностью, волосы встали дыбом, а платье все извалялось в грязи, то зрелище, которое он собой являл, было настолько плачевно, что обе мисс Пексниф не могли удержаться от невольного крика.
– Ну, будет, будет, – произнес мистер Пексниф. – Мне уже лучше.
– Он очнулся! – вскрикнула младшая мисс Пексниф.
– Он заговорил! – возопила старшая.
С этими радостными словами они расцеловали мистера Пекснифа в обе щеки и повели его в комнаты. Сейчас же после этого младшая мисс Пексниф опять выбежала из дома, подобрала отцовскую шляпу, сверток в коричневой бумаге, зонтик, перчатки и остальные мелочи, после чего двери были заперты и обе девицы, удалившись в малую гостиную, приступили к врачеванию ран мистера Пекснифа.
Увечья были не слишком серьезного характера: всего-навсего ссадины на тех частях тела, которые старшая мисс Пексниф называла «мослаками», то есть на локтях и коленях, – да на затылке у него появился новый орган, доселе неизвестный френологам. Уврачевав эти повреждения извне компрессами из оберточной бумаги, намоченной в уксусе, а самого мистера Пекснифа изнутри стаканчиком бренди, слегка разбавленного водой, старшая мисс Пексниф уселась разливать чай за накрытым уже столом. Тем временем младшая мисс Пексниф принесла из кухни дымящуюся яичницу с ветчиной и, поставив ее перед своим папашей, примостилась на низенькой скамеечке у его ног, так что ее глаза приходились вровень с чайным столом.
На основании этой смиренной позиции отнюдь не следует делать вывод, будто младшая мисс Пексниф была так юна, что ей в силу необходимости приходилось сидеть на скамеечке – оттого, что у нее были коротенькие ножки. Мисс Пексниф сидела на скамеечке потому, что была простодушна и невинна в высшей степени, в самой высшей. Мисс Пексниф сидела на скамеечке оттого, что она была вся резвость и девическая живость, оттого, что она была и шаловлива, и своевольна, и игрива, как котенок. Она была самое лукавое и в то же время самое бесхитростное существо, какое только можно себе представить, – вот что такое была младшая мисс Пексниф. В этом и заключалась ее прелесть. Она была слишком невинна и проста, слишком полна чисто детской живости, чтобы носить гребенки в волосах, или зачесывать их кверху, или завивать их, или заплетать в косы. Она носила волосы распущенными, так что кудри падали ей на плечи, располагаясь рядами, и этих рядов было столько, что на самый верх приходилась всего одна кудряшка. Фигурка у нее была полненькая и очень женственная, и тем не менее иногда – не каждый день, конечно, – она надевала детский фартучек, и до чего это ей шло! Да, действительно эта младшая мисс Пексниф была «прелестное созданье» (как справедливо выразился некий молодои джентльмен в «Поэтическом уголке» одной провинциальной газеты).
Мистер Пексниф был человек добродетельный, серьезный человек, человек с возвышенными чувствами и возвышенной речью, а потому он окрестил ее Мерси. Сострадание! Ах, какое прелестное имя для такого непорочного существа, каким была младшая мисс Пексниф! Ее сестру Звали Чарити. Чудесно, просто чудесно! Мерси и Чарити! Сострадание и Милосердие! И Чарити, с ее трезвым умом и тихим, кротким, отнюдь не сварливым характером, тоже была окрещена удачно и не менее удачно оттеняла и дополняла свою младшую сестру! Как приятно было смотреть на них обеих, настолько несхожих между собой, видеть, как они любят и понимают друг дружку, как преданы друг дружке и совершенно не могут обойтись одна без другой, и как одна дополняет и исправляет другую, служа, так сказать, противоядием. Каждая из девиц, несмотря на взаимную любовь и восхищение, вела коммерцию на свой собственный страх и риск и на совершенно иных основаниях, нежели ее сестрица, объявляя, что не имеет ничего общего с конкурирующей фирмой, а если качество товаров в соседней лавочке вас не удовлетворит, почтительнейше просим осчастливить нас своим посещением! И весь очаровательный прейскурант увенчивало то обстоятельство, что оба прелестных создания ничего этого совершенно не подозревали. Не имели об этом ни малейшего понятия. Им это и в голову не приходило, даже и во сне не снилось, точно так же, как и мистеру Пекснифу. Сама природа позаботилась о том, чтобы они оттеняли друг друга, а девицы Пексниф были тут совершенно ни при чем.
Как мы уже имели случай заметить, мистер Пексниф был чел
Страница 8
век добродетельный. Вот именно. Быть может, никогда еще не было на свете человека более добродетельного, чем мистер Пексниф, особенно на словах и в переписке. Один бесхитростный почитатель как-то выразился про мистера Пекснифа, что это целый клад добродетелей, в некотором роде Фортунатова сума[12 - Фортунатова сума – волшебный кошелек, в котором никогда не переводились деньги, подаренный Фортунату, герою популярной немецкой легенды XV века, богиней судьбы.]. В этом отношении он был похож на сказочную принцессу, у которой сыпались изо рта настоящие бриллианты, с той только разницей, что у него это были прекрасно отшлифованные, ослепительного блеска стекляшки. Это был человек самого примерного поведения, набитый правилами добродетели не хуже любой прописи. Некоторые знакомые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывает всем дорогу, а сам никуда не идет, – но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света, вот и все. Даже его шея выглядела добродетельной. Эта шея была у всех на виду. Заглядывая за низенькую ограду белого галстука (узел которого оставался тайной для публики, ибо мистер Пексниф завязывал его сзади), вы видели светлую долину, незатененную бакенами и простиравшуюся между двумя высокими выступами воротничка. Эта шея как будто говорила, предстательствуя за мистера Пекснифа: «Никакого обмана тут нет, леди и джентльмены, здесь все исполнено мира и священного спокойствия». То же говорили и волосы, слегка седеющие, со стальным отливом, зачесанные со лба назад и торчащие либо прямо кверху, либо слегка нависающие над глазами, так же как и тяжелые веки мистера Пекснифа. То же говорили и его манеры, мягкие и вкрадчивые. Словом, даже его строгий черный костюм, даже его вдовство, даже болтающийся на ленте двойной лорнет – все устремлялось к одной и той же цели и громко вопияло: «Воззрите на добродетельного мистера Пекснифа!»На медной дверной дощечке (а она не могла лгать, ибо принадлежала мистеру Пекснифу) было начертано: «Пексниф, архитектор», к чему мистер Пексниф на своих визитных карточках добавлял: «и землемер». В одном смысле, и только в этом единственном, его можно было назвать землемером с довольно обширным полем деятельности: перед его домом простиралась обширная полоса земли, которую он мог измерять взглядом. Насчет его архитектурных занятий не было известно ничего определенного, кроме того, что он никогда ничего не проектировал и не строил; но вообще подразумевалось, что глубина его познаний в этой области поистине неизмерима.
Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились главным образом к тому, что он держал учеников, ибо получение доходов, коим изредка разнообразились, отдохновения ради, его более серьезные труды, строго говоря, едва ли входит в обязанности архитектора. Все его таланты состояли в том, что он умел расставлять сети родителям и опекунам и класть в карман плату за обучение. Как только денежки за молодого человека бывали уплачены и молодой человек переселялся в дом мистера Пекснифа, мистер Пексниф брал у него взаймы чертежные инструменты (оправленные в серебро или представлявшие ценность в другом отношении) и просил его с этой минуты считать себя своим человеком в доме; затем, весьма лестно отозвавшись о его родителях или опекунах, смотря по обстоятельствам, предоставлял ему полную свободу действий в просторной комнате на третьем этаже, где, в обществе нескольких чертежных досок, рейсшин, циркулей с весьма неподатливыми ножками и двух или трех сверстников, он совершенствовался в науках года три, а то и больше, соответственно условиям контракта, производя съемку содсберийского собора со всех возможных точек Зрения, а также строя в воздухе множество замков, парламентов и других общественных зданий. Быть может, нигде на земном шаре не возводилось столько пышных построек этого рода, сколько здесь, под присмотром мистера Пекснифа, и если бы хоть одна двадцатая доля тех церквей, какие строились в этой самой комнате (с одной из девиц Пексниф в роли невесты и юным архитектором в роли жениха), была действительно принята парламентской комиссией, то по крайней мере в течение пяти столетий не понадобилось бы больше строить церквей.
– Даже и в земных благах, которыми мы сейчас насладились, – произнес мистер Пексниф, покончив с едой и обводя взглядом стол, – даже в сливках, сахаре, чае, хлебе, яичнице…
– С ветчиной, – подсказала негромко Чарити.
– Да, с ветчиной, – подхватил мистер Пексниф, – даже и в них заключается своя мораль. Смотрите, как быстро они исчезают! Всякое удовольствие преходяще. Даже еде мы не можем предаваться слишком долго. Если мы пьем много чая – нам грозит водянка, если пьем много виски – мы пьяны. Какая это утешительная мысль!
– Не говорите, что мы пьяны, папа, – остановила его старшая мисс Пексниф.
– Когда я говорю мы, душа моя, – возразил ей отец, – я подразумеваю человечество вообще, род человеческий, взятый в целом, а не кого-либо в отдельности. Мораль не знает намеков на личности, душа моя. Даже вот такая штука, – продол
Страница 9
ал мистер Пекениф, приставив указательный палец левой руки к макушке, залепленной оберточной бумагой, – хотя это только небольшая плешь случайного происхождения, – напоминает нам, что мы всего-навсего… – он хотел было сказать «черви», но, вспомнив, что черви не отличаются густотой волос, закончил: – …бренная плоть.– И это, – воскликнул мистер Пексниф после паузы, во время которой он, по-видимому без особого успеха, искал новой темы для поучения, – и это также весьма утешительно. Мерси, дорогая моя, помешай в камине и выгреби золу.
Младшая мисс Пексниф послушно принялась мешать в камине, потом снова уселась на скамеечку и, положив на отцовское колено руку, прильнула к ней румяной щекой. Мисс Чарити придвинула стул поближе к огню, готовясь к беседе, и устремила взор на отца.
– Да, – произнес мистер Пексниф после краткого молчания, во время которого он, безмолвно улыбаясь и покачивая головой, глядел в камин, – мне опять посчастливилось достигнуть своей цели. У нас в доме в самом скором времени появится новый жилец.
– Молодой человек, папа? – спросила Чарити.
– Да, молодой, – ответил мистер Пексниф. – Ему представляется редкая возможность соединить все преимущества наилучшего для архитектора практического образования с семейным уютом и постоянным общением с лицами, которые, как бы ни были ограничены их способности и скромна их сфера, тем не менее вполне сознают свою моральную ответственность.
– Ах, папа! – воскликнула Мерси, лукаво грозя ему пальчиком. – Точь-в-точь объявление!
– Веселая… веселая певунья! – сказал мистер Пексниф.
Тут кстати будет заметить по поводу того, что мистер Пексниф назвал свою дочку «певуньей», что у нее совсем не было голоса, но что мистер Пексниф имел привычку ввертывать в разговор любое слово, какое только попадалось на язык, не особенно заботясь о его значении, лишь бы оно было звучно и хорошо закругляло фразу. И делал он это так уверенно и с таким внушительным видом, что своим красноречием нередко ставил в тупик первейших умников, так что те только глазами хлопали.
Враги мистера Пекснифа утверждали, кстати сказать, будто он во всем полагался на силу пустопорожних фраз и форм и что в этом заключалась сущность его характера.
– Он хорош собой, папа? – спросила младшая дочь.
– Глупышка Мерри! – сказала старшая: – «Мерри» употреблялось ласкательно вместо «Мерси». – Скажите лучше, сколько он будет платить?
– Ах, боже мой, Черри! – воскликнула мисс Мерси, всплескивая руками и самым обворожительным образом хихикая. – Какая же ты корыстная! Хитрая, расчетливая, гадкая девчонка!
Совершенно очаровательная сцена во вкусе века пасторалей: обе мисс Пексниф сначала слегка отшлепали друг друга, а после того бросились обниматься, проявив при этом всю противоположность своих натур.
– Он, кажется, недурен собой, – произнес мистер Пексниф с расстановкой и очень внятно, – довольно-таки недурен. Не могу сказать, чтобы я ожидал от него немедленной уплаты денег.
Хотя обе сестры были совсем разные, но при этих словах они одинаково широко раскрыли глаза и посмотрели на папашу таким удивленным взглядом, будто они в самом деле только и думали, что о презренной пользе.
– Ну, и что же из этого! – говорил мистер Пексниф, по-прежнему улыбаясь огню в камине. – Надеюсь, есть еще на свете бескорыстие? Не все же мы в разных лагерях – одни обидчики, а другие обиженные. Есть среди нас и такие, которые оказываются посередине, подают помощь тем, кому она нужна, и не примыкают ни к одной из сторон. А – гм?
В этой филантропической окрошке скрывался все же некий смысл, успокоивший сестер. Они обменялись взглядами и повеселели.
– Ну, к чему постоянно рассчитывать, строить какие-то планы, заглядывать в будущее, – говорил мистер Пексниф, улыбаясь все шире и глядя на огонь с таким выражением, словно это с ним он вел шутливую беседу. – Мне противны все эти хитрости. Если мы склонны быть добрыми и великодушными, смело дадим себе волю, хотя бы это принесло нам убыток вместо прибыли. А, Чарити?
Впервые подняв глаза после того, как он начал размышлять вслух, и увидев, что обе дочери улыбаются ему, мистер Пексниф подарил их таким игривым взглядом, что младшая, получив это поощрение, тут же перепорхнула к нему на колени, обняла его за шею своими прелестными ручками и поцеловала раз двадцать подряд. Во все время этой трогательной сцены она смеялась так заразительно, что к ее необузданной веселости присоединилась даже степенная и благоразумная Черри.
– Ну, будет, будет, – сказал мистер Пексниф и, слегка отстранив младшую дочь, пригладил пальцами волосы и снова принял достойное выражение лица. – Что за безрассудство! Остережемся смеяться без причины, чтобы после нам не плакать. Какие у нас дома новости со вчерашнего дня? Надеюсь, Джон Уэстлок уехал?
– В том-то и дело, что нет, – сказала Чарити.
– Почему же нет? – вопросил отец. – Срок ему вышел еще вчера. И вещи его уложены, я знаю; я сам видел утром, что его сундук стоит в прихожей.
– Вчера он ночевал в «Драконе», – о
Страница 10
вечала молодая девушка, – и пригласил мистера Пинча отобедать с ним. Вечер они провели вместе, и мистер Пинч до самой поздней ночи не являлся домой.– А когда я встретила его утром на лестнице, папа, – вмешалась Мерси с обычной своей живостью, – господи, до чего он был страшный! Цвет лица просто необыкновенный какой-то, глаза тусклые, как у вареного судака, голова, должно быть, трещит ужасно, я это сразу заметила, а от самого несет бог знает как, ну просто до невозможности, – тут молодая особа содрогнулась, – пуншем и табаком.
– Мне кажется, – произнес мистер Пексниф с привычной для него мягкостью, но в то же время с видом жертвы, безропотно сносящей обиду, – мне кажется, мистер Пинч напрасно выбрал себе в товарищи такого человека, который в завершение долголетнего знакомства пытался, как ему известно, оскорбить мои чувства. Я не вполне уверен, что это любезно со стороны мистера Пинча. Я не вполне уверен, что это тактично со стороны мистера Пинча.
Я пойду дальше и скажу, что не вполне уверен, есть ли тут самая обыкновенная благодарность со стороны мистера Пинча.
– Но чего же можно ожидать от мистера Пинча[13 - Пинч (англ, pinch) – буквально: «ущипнуть», «щипок».], – воскликнула Чарити, делая такое сильное и презрительное ударение на фамилии, что, казалось, она с величайшим наслаждением ущипнула бы прямо за ляжку этого джентльмена, если бы разыгрывала шараду.
– Да, да, – возразил ее отец, кротко поднимая руку. – легко нам говорить «чего мы можем ожидать от мистера Пинча», но ведь мистер Пинч наш ближний, душа моя; это единица в общем итоге человечества, душа моя, и наше право, даже наш долг, – ожидать от мистера Пинча некоторого развития тех лучших свойств характера, коими мы по справедливости гордимся. Нет, – продолжал мистер Пексниф, – нет! Боже меня сохрани, чтобы я стал говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от мистера Пинча, или чтобы я стад говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от какого бы то ни было человека (даже самого развращенного, каким нельзя считать мистера Пинча, отнюдь нет); но мистер Пинч разочаровал меня; он меня огорчил; поэтому несколько изменилось к худшему мое мнение о мистере Пинче, но не о человеческой природе! Нет, о нет!
– Тише! – сказала мисс Чарити, подняв кверху палец, так как в это время кто-то осторожно постучался в парадную дверь. – Явилось наше сокровище! Попомните мои слова, это он вернулся вместе с Джоном Уэстлоком за его вещами и намерен помочь ему донести сундук до остановки дилижанса. Попомните мои слова, вот что у него на уме!
Должно быть, в то самое время как она это говорила, сундук выносили из дома, но после кратких переговоров шепотом его снова поставили на пол, и кто-то постучался в дверь гостиной.
– Войдите! – воскликнул мистер Пексниф, – сурово, но добродетельно. – Войдите!
Этим разрешением не преминул воспользоваться человек мешковатый, неловкий в движениях, крайне близорукий и преждевременно облысевший, но, заметив, что мистер Пексниф сидит к нему спиной, глядя на огонь, он нерешительно остановился, держась за дверную ручку. Он был далеко не красавец, и его фигуру облекал табачного цвета костюм, который и снову был скроен неладно, а теперь от долгой носки весь съежился и сморщился, потеряв всякий покрой; однако, несмотря на костюм и нескладную фигуру, которую отнюдь не красила сильная сутуловатость и смешная привычка вытягивать голову вперед, никому не пришло бы в голову считать его дурным человеком, разве только полагаясь на слова мистера Пекснифа. Ему было, вероятно, лет около тридцати, а с виду можно было дать сколько угодно, от шестнадцати до шестидесяти: он принадлежал к тем странным людям, которые никогда не становятся вполне дряхлыми, но выглядят стариками уже в ранней юности, а после того становятся все моложе.
По-прежнему держась за ручку двери, он несколько раз переводил глаза с мистера Пекснифа на Мерси, с Мерси на Чарити, с Чарити опять на мистера Пекснифа; но так как обе дочки глядели в огонь с тем же упорством, что и папаша, и никто из них троих не обращал на него ни малейшего внимания, он вынужден был, наконец, сказать:
– Извините меня, мистер Пексниф: я, кажется, помешал вам…
– Нет, вы не помешали, мистер Пинч, – возразил тот очень кротко, но не оглядываясь на него. – Садитесь, пожалуйста, мистер Пинч. И будьте так любезны закрыть дверь, мистер Пинч, прошу вас, если вам нетрудно.
– Да, сэр, конечно, – сказал Пинч, не закрывая, однако, дверей, а, наоборот, открывая их еще шире и боязливо кивая головой кому-то стоявшему за порогом. – Мистер Уэстлок, сэр, узнав, что вы уже вернулись домой…
– Мистер Пинч, мистер Пинч! – произнес Пексниф, поворачиваясь кругом вместе со стулом, и глядя на Пинча с выражением глубочайшей скорби: – Я не ожидал этого с вашей стороны. Я не заслужил этого с вашей стороны!
– Но, право же, сэр… – настаивал Пинч.
– Чем меньше будет вами сказано, мистер Пинч, – остановил его Пексниф, – тем будет лучше. Я не жалуюсь ни на что. Не оправдывайтесь, пожалуйста.
Нет
Страница 11
позвольте, сэр, – воскликнул Пинч с большим жаром, – прошу пас! Мистер Уэстлок, СЭР, уезжая из этих мест навсегда, желает расстаться с вами по-дружески. У вас с мистером Уэстлоком, сэр, вышло на днях маленькое недоразумение; у вас и прежде бывали маленькие недоразумения…– Маленькие недоразумения! – воскликнула Чарити.
– Маленькие недоразумения! – эхом отозвалась Мерси.
– Дорогие мои! – сказал мистер Пексниф, все с тем же возвышенным смирением простирая руку к небесам. – Милые! – Выдержав торжественную паузу, он кротко кивнул мистеру Пинчу, как бы говоря: «Продолжайте», – но мистер Пинч до того растерялся, не зная, что говорить дальше, и так беспомощно глядел на обеих девиц, что разговор, вероятно, и закончился бы на этом, если бы красивый юноша, едва достигший возмужалости, не переступил в эту минуту порога и не подхватил нить беседы на том самом месте, где она оборвалась.
– Послушайте, мистер Пексниф! – сказал он, улыбаясь, – пусть между нами не останется никакого враждебного чувства, прошу вас. Я очень сожалею о том, что мы с вами не ладили, и сожалею как нельзя более, если я вас чем-нибудь оскорбил. Не поминайте меня лихом, сэр.
– Я ни одному человеку на свете не желаю зла, – кротко отвечал мистер Пексниф.
– Я же вам говорил, – громким шепотом вмешался мистер Пинч, – я так и знал! Я это от него всегда слышал.
– Так вы подадите мне руку, сэр? – воскликнул Джон Уэстлок, делая вперед шага два и взглядом приглашая мистера Пинча внимательно следить за происходящим.
– Гм! – произнес мистер Пексниф самым кротким голосом.
– Вы подадите мне руку, сэр?
– Нет, Джон, – отвечал мистер Пексниф с почти неземным спокойствием, – нет, я не подам вам руки. Я простил вас. Я давно уже простил вас, еще в то время, когда вы корили меня и издевались надо мной. Я примирился с вами во Христе, а это гораздо лучше, нежели подавать вам руку.
– Пинч, – сказал юноша, уже не скрывая своего презрения к бывшему наставнику, – что я вам говорил?
Бедняга Пинч, совершенно потерявшись, взглянул было на мистера Пекснифа, который с самого начала беседы не сводил с него глаз, но так и не найдя, что ответить, перевел взгляд на потолок.
– Что касается вашего прощения, мистер Пексниф, – сказал юноша, – то на таких условиях я его не приму. Я не желаю, чтобы меня прощали.
– Не желаете, Джон? – отвечал мистер Пексниф с улыбкой. – Но вам придется его принять. Вы не можете этому противиться. Прощение есть дар небес, оно есть самая возвышенная добродетель; оно вне вашей сферы и не подвластно вам, Джон. Я все-таки прощу вас. Вы не заставите меня помнить зло, которое вы мне причинили, Джон.
– Зло! – воскликнул тот со всем жаром юности. – Хорош голубчик! Зло! Я ему делал зло! Он и думать забыл про пятьсот фунтов, которые выманил у меня под всякими предлогами, и про семьдесят фунтов в год за стол и квартиру, когда за них много было бы и семнадцати! Нечего сказать, мученик!
– Деньги, Джон, – сказал мистер Пексниф, – это корень всякого зла. Прискорбно видеть, что вы уже поддались их пагубному влиянию. А я не хочу даже помнить, что они существуют на свете. Не хочу помнить и о поведении того заблудшего, – здесь мистер Пексниф, до сих пор изъяснявшийся со всей кротостью миротворца, возвысил голос, словно желая сказать: «Я тебя, негодяя, насквозь вижу», – того заблудшего, который привел вас сюда, пытаясь нарушить (к счастью, тщетно) покой и душевный мир человека, которому не жаль было бы отдать за него последнюю каплю крови.
Тут голос мистера Пекснифа задрожал, в ответ послышались глухие рыдания его дочерей. Более того, в воздухе реяли и звучали два незримых голоса, – один восклицал: «Скотина!», другой: «Свинья!»
– Способность прощать, – произнес мистер Пексниф, – прощать вполне и до конца, бывает иногда совместима и с сердечными ранами: быть может, если сердце ранено, тем больше в этом чести. Душа моя все еще содрогается и глубоко скорбит о неблагодарности этого человека, но я испытываю гордость и радость, говоря, что прощаю ему. Нет! Прошу этого человека, – возвысил голос мистер Пексниф, видя, что Пинч собирается заговорить, – прошу его не перебивать меня замечаниями; он премного меня обяжет, если не произнесет сейчас ни слова. Я не уверен, что у меня найдутся силы перенести это испытание. Через самое короткое время, надеюсь, я найду в себе достаточно твердости, чтобы продолжать беседу с ним так, как если бы ничего этого не произошло. Но не сейчас, – закончил мистер Пексниф, снова поворачиваясь к огню и махая рукой по направлению к дверям, – не сейчас!
– О! – воскликнул Джон Уэстлок со всем презрением и негодованием, какие могло выразить это односложное восклицание. – Всего наилучшего, барышни! Идем, Пинч, не стоит над этим задумываться. Я был прав, а вы ошибались. Это не так важно, в другой раз будете умнее.
С этими словами он похлопал по плечу своего приунывшего товарища, повернулся на каблуках и вышел в коридор, куда, нерешительно потоптавшись сначала в гостиной, последовал за ним и бедный мистер П
Страница 12
нч, с выражением глубочайшей подавленности и печали на лице. Затем они вдвоем подхватили сундук и отправились навстречу дилижансу.Этот быстроходный экипаж проезжал каждый вечер мимо перекрестка на углу, куда оба они и направились теперь. Несколько минут они шли по улице молча, пока, наконец, молодой Уэстлок не расхохотался громко. Потом он замолчал, потом опять расхохотался, и так несколько раз подряд. Однако его спутник ни разу не отозвался тем же.
– Вот что я скажу вам, Пинч! – начал вдруг Уэстлок после новой продолжительной паузы. – В вас мало злости. Какое там мало! Ни капли нет!
– Ну что ж! – сказал Пинч со вздохом. – Не знаю, право. Это, может быть, даже лестно. Может, еще тем лучше, что во мне ее нет.
– Тем лучше! – передразнил его спутник. – Тем хуже, хотите вы сказать.
– И все-таки, – продолжал Пинч, занятый собственными мыслями и не слыша этих последних слов своего друга, – во мне, должно быть, немало того, что вы называете злостью; иначе как бы я мог до такой степени огорчить Пекснифа? Мне бы очень не хотелось его обижать – не смейтесь, пожалуйста! – не хотелось бы ни за какие деньги; а, видит бог, они мне крайне были бы нужны, Джон. Как он огорчился!
– Он огорчился! – возразил его друг.
– Разве вы не заметили, что у него навернулись слезы! – воскликнул Пинч. – Боже ты мой, Джон, ведь это далеко не пустяки – видеть человека до такой степени взволнованным и знать, что ты этому виной! А слышали вы, как он сказал, что ему не жаль было бы отдать за меня последнюю каплю крови?
– А вам нужна эта последняя капля? – довольно резко возразил Джон. – Вот если бы он не жалел для вас того, что вам действительно нужно, – тогда другое дело. А то ведь ему жаль для вас порядочной работы, жаль карманных денег, жаль обучить вас хоть чему-нибудь! Ему жаль для вас даже баранины в сообразной пропорции с картошкой и овощами!
– Боюсь, – сказал Пинч, снова вздыхая, – что я очень много ем! Не могу же я не видеть, что очень много ем. И вы это знаете, Джон.
– Вы много едите? – переспросил его спутник с не меньшим возмущением, чем прежде. – Откуда вам это может быть известно?
По-видимому, этот вопрос заключал в себе большую убедительную силу, так как мистер Пинч только повторил полушепотом, что питает сильное подозрение на этот счет и очень боится, что так оно и есть.
– Впрочем, так оно или не так, – прибавил он, – это к делу не относится, важно то, что мистер Пексниф считает меня неблагодарным. Джон, на мой взгляд, нет на свете преступления более вопиющего, чем неблагодарность, и если он упрекает меня в неблагодарности и думает, что я действительно заслужил такой упрек, для меня это – просто нож острый!
– А по-вашему, он этого не знает? – отвечал тот пренебрежительно. – Ну вот что, Пинч, не буду я с вами спорить, но только вы сами отдайте себе отчет, какие у вас резоны быть ему благодарным, хорошо? Сначала переменим руки, а то сундук тяжелый. Ну, вот так. А теперь говорите.
– Во-первых, – начал Пинч, – он принял меня в ученики и взял с меня гораздо меньше, чем просил сначала.
– Положим, – ответил его друг, ничуть не тронувшись таким великодушием. – А что во-вторых?
– Как что во-вторых? – воскликнул Пинч с некоторым даже вызовом. – Да все решительно! Моя бедная бабушка умерла счастливой, успокоенная мыслью, что поместила меня к такому превосходному человеку. Я вырос у него в доме, я теперь его доверенное лицо, его помощник, он назначил мне жалованье; а когда дела пойдут лучше – и мои перспективы тоже изменятся к лучшему. Вот это все и есть во-вторых, и многое другое тоже! А в качестве пролога и предисловия и к во-первых и к во-вторых, Джон, вы должны принять во внимание, что я родился для более простой и бедной жизни, что в его профессии я смыслю мало и таланта к ней у меня нет, да, в сущности, нет способностей и ни к чему другому, кроме разных пустяковых дел, которые никому не могут быть особенно нужны и полезны.
Он говорил все это с такой искренностью и с таким чувством, что его спутник невольно переменил тон и, усевшись на сундук (к этому времени они успели дойти до придорожного столба на перекрестке), жестом пригласил его сесть рядом и положил руку ему на плечо.
– Том Пинч, – сказал он, – я думаю, что лучше вас едва ли найдется человек на свете.
– Да нет, что вы, – ответил Том. – Если бы вы только знали Пекснифа так, как я его знаю, вы и про него сказали бы то же самое, и, право, не ошиблись бы.
– Я скажу о нем все, что вам будет угодно, – возразил тот, – и ничего не скажу ему в поношение.
– Так это ради меня, а не ради него, – сказал Том, грустно качая головой.
– Ради кого хотите, Том, лишь бы вам это пришлось по сердцу. Да! Замечательный человек! Он ведь не зацапал и не загреб в свою мошну последние трудовые гроши вашей бедной старухи бабки, – она, кажется, была экономкой, Том?
– Да, – сказал мистер Пинч, обняв свое костлявое колено и кивая головой, – она была экономкой в помещичьем доме.
– Он не зацапал и не загреб в свою мошну ее последние трудо
Страница 13
ые гроши, вскружив ей голову блестящей перспективой ваших будущих успехов и счастья, хотя отлично знал (лучше всякого другого!), что этому никогда не бывать! Он не вымогал у нее денег, играя на ее слабой струнке, зная, что она гордится вами, что она воспитала вас, что она мечтает сделать из вас джентльмена! Он тут ни при чем!– Ну да, – сказал Том Пинч, заглядывая в глаза своему другу и как будто сомневаясь в значении его слов, – разумеется, он тут ни при чем.
– Вот и я то же говорю, – ответил юноша, – разумеется, нет. Он взял с вас нисколько не меньше, чем просил, потому что у старухи это было все, что она имела; и это было гораздо больше, чем он ожидал. Он тут ни при чем! Он держит вас в помощниках не потому, что вы ему полезны; не потому, что ваша удивительная вера в его мнимые добродетели служит ему хорошую службу во всех его проделках; не потому, что вашу честность приписывают ему; не потому, что слухи о ваших прогулках на досуге с книжками на древних и новых языках дошли даже до Солсбери и сделали из вашего наставника Пекснифа особу великой учености и чрезвычайного веса. Еще бы, Том, – разумеется, ему от вас мало пользы!
– Да, разумеется, немного, – отвечал Пинч, глядя на своего друга в совершенном смущении. – Какая может быть Пекснифу польза от меня! Что вы!
– А разве я не говорю, – возразил тот, – что смешно даже думать об этом?
– Это просто сумасшествие, – сказал Том.
– Сумасшествие! – подхватил молодой Уэстлок. – Еще бы не сумасшествие! Только сумасшедший подумает, будто Пекснифу приятно слышать, что любитель, который играет по воскресеньям на органе и музицирует иногда в летние сумерки, это тот молодой человек, что служит у мистера Пекснифа, – а, Том? Только сумасшедший подумает, что такой человек пустится на мелкие хитрости – припишет себе те сотни пустяковых дел, которые выполняете вы (и которым, разумеется, он научил вас), – а, Том? Только сумасшедший подумает, что это вы создаете ему известность, и создаете гораздо более верным и дешевым способом, чем если бы его имя печаталось в афишах, – а, Том? Но с таким же успехом можно подумать и обратное: что он далеко не всегда с нами откровенен, что и жалованье он вам назначил не слишком большое и не слишком щедрое, и, как это ни дико и ни невероятно, но можно подумать, – говоря это, он при каждом слове постукивал Тома по груди, – что Пексниф строит свои расчеты на вашем характере, а по характеру вы робки и склонны доверять не себе, а другим, и более всего тому, кто меньше всех достоин доверия. Да это ли не сумасшествие, Том!
Мистер Пинч выслушал его слова с растерянным видом, который объяснялся отчасти их содержанием, отчасти же их стремительностью и горячностью. Когда же Джон замолчал, мистер Пинч глубоко вздохнул и с грустью заглянул другу в глаза, словно не в состоянии решить, что именно они выражают. Казалось, он надеялся, несмотря на темноту, найти ключ к истинному смыслу его слов и уже собирался было ему ответить, как вдруг почтовый рожок весело зазвучал в их ушах, положив конец разговору, по-видимому к великому облегчению младшего из собеседников, который живо вскочил с сундука и протянул руку мистеру Пинчу.
– Обе ваши руки, Том! Я буду писать вам из Лондона, не забывайте меня!
– Да, – сказал Том. – Да. Пишите, пожалуйста. Прощайте. Протайте же. Как-то не верится, что вы уезжаете. Кажется, будто вы приехали только вчера. Прощайте, дорогой мой друг!
Джон Уэстлок ответил на его прощальные слова не менее сердечно, затем взобрался на империал. И вскачь понеслась карета по темной дороге; ярко блестели фонари, и почтовый рожок будил эхо, далеко разносившееся вокруг.
– Ступай своей дорогой, – произнес Пинч вдогонку дилижансу. – Мне трудно поверить, что ты не живое существо, не какое-нибудь гигантское чудовище, которое время от времени наведывается в наши места, унося моих друзей в далекий мир. Сегодня же, как мне кажется, ты больше обычного торжествуешь и буйствуешь. Да и стоит трубить над такой добычей, потому что Джон чудесный малый, простая душа, и, насколько мне известно, у него только один недостаток: сам того не желая, он чудовищно несправедлив к Пекснифу.
Глава III,
где мы знакомимся с некоторыми другими лицами на тех же условиях, что и в предыдущей главе
Выше уже упоминался – и не раз – некий дракон, с жалобным скрипом качавшийся перед дверью деревенской гостиницы. Это был облезлый и дряхлый дракон; от частых зимних бурь с дождем, снегом, изморозью и градом он стал из ярко-синего грязно-серым, самого тусклого оттенка. Однако он все висел да висел, с идиотским видом встав на дыбы, и день ото дня становился все тусклее и расплывчатое, так что, если глядеть на него с лица вывески, казалось – будто он просочился насквозь и проступил на обороте.
Это был весьма учтивый и обязательный дракон, то есть был в те далекие времена, когда он еще не расплылся окончательно, ибо даже теперь, едва держась на ногах, он подносил одну переднюю лапу к носу, будто говоря:
«Не бойтесь, это я только так, шучу!»
Страница 14
а другую простирал вперед любезным и гостеприимным жестом. Право, нельзя не согласиться, что в наши дни все драконово племя в целом сделало большой шаг вперед в отношении цивилизованности и смягчения нравов. Драконы уже не требуют ежедневно по красавице на завтрак, с педантичностью тихого старого холостяка, привыкшего получать каждый день поутру горячую булку: в наше время они больше известны тем, что чуждаются прекрасного пола и не поощряют дамских визитов (особенно в субботу вечером) и уже не навязывают свое общество дамам, не спросясь наперед, придется ли оно по вкусу, как это за ними водилось в старину.Эта похвала цивилизованным драконам отнюдь не заводит нас так далеко в дебри естествознания, как может показаться с первого взгляда, ибо сейчас мы должны заняться драконом, логово которого находилось по соседству с домом мистера Пекснифа, и, поскольку это благовоспитанное чудовище уже выведено на арену, ничто не мешает нам приступить к делу.
В течение многих лет дракон этот покачивался, громыхая и скрипя на ветру, перед окнами парадной спальни гостеприимного заведения, которому присвоено было его имя, но за все те годы, что он покачивался, громыхал и скрипел, никогда еще не бывало такой возни и суматохи в его грязноватых владеньях, как в тот вечер, который последовал за событиями, весьма подробно описанными в предыдущей главе; никогда еще не бывало такой беготни вверх и вниз по лестницам, такого множества огней, такого шушуканья, такого дыма и треска от дров, разгорающихся в отсыревшем камине; никогда так старательно не просушивались простыни, никогда так не пахло на весь дом раскаленными грелками, никогда не бывало таких хлопот по хозяйству; короче говоря, ничего подобного еще не доводилось видеть ни дракону, ни грифону, ни единорогу[14 - …ни дракону, ни грифону, ни единорогу… – легендарные чудовища, встречающиеся в мифологии различных народов. В средние века изображениями этих чудовищ украшали военные доспехи и знамена. Позднее драконы, грифоны и единороги, как шутит Диккенс, «начали интересоваться домашним хозяйством» и перекочевали на вывески постоялых дворов и трактиров.] и никому из всего их племени с тех самых пор, как они начали интересоваться домашним хозяйством.
Пожилой джентльмен и молодая леди, ехавшие вдвоем, без спутников, на почтовых, в облупленной старой карете и направлявшиеся неизвестно откуда и неизвестно куда, вдруг свернули с большой дороги и остановились перед «Синим Драконом». И теперь этот самый джентльмен, который неожиданно расхворался в дороге и только поэтому отважился заехать в такой трактир, мучился от ужасных колик и спазм, но, невзирая на свои страдания, ни за что не позволял пригласить к себе доктора и не желал принимать никаких лекарств, кроме тех, что достала из дорожной аптечки молодая леди, да и вообще ничего не желал, а только доводил хозяйку до полной потери чувств, наотрез отказываясь решительно, от всего, что бы она ему ни предлагала.
Из всех пятисот средств, какие могли облегчить его страдания и были предложены этой доброй женщиной менее чем за полчаса, он согласился только на одно. А именно – лечь в постель. И как раз из-за того, что ему стелили постель и прибирали в спальне, и поднялась вся возня в той комнате, перед окнами которой висел дракон.
Джентльмен был без сомнения очень болен и страдал невыносимо, хотя с виду это был очень крепкий и выносливый старик, с характером твердым как железо и голосом звучным как медь. Однако ни опасения за собственную жизнь, которые он выражал неоднократно, ни сильнейшие боли, терзавшие его, нимало не повлияли на его решение. Он так-таки не желал ни за кем посылать. Чем хуже больной себя чувствовал, тем тверже и непреклоннее становилась его решимость. Если пошлют за кем бы то ни было для оказания ему помощи, он ни минуты больше не останется в этом доме (так он и выразился), хотя бы ему пришлось уйти пешком и даже умереть на пороге.
Так как в деревне не было практикующего врача, а проживал только замухрышка-аптекарь, который торговал также бакалеей и мелочным товаром, то хозяйка на свой страх послала за ним в первую же минуту, как только стряслась беда. И само собой разумеется, именно потому, что он понадобился, его не оказалось дома. Он уехал куда-то за несколько миль, и его ожидали домой разве только поздно ночью, а потому хозяйка, которая к этому времени совершенно потеряла голову, поскорей отправила того же посыльного за мистером Пекснифом, который, как человек образованный, конечно сумеет распорядиться и взять на себя ответственность, а как человек добродетельный – сумеет преподать утешение страждущей душе. Что ее постоялец нуждается в чьей-нибудь энергичной помощи по этой части, достаточно явствовало из беспокойных восклицаний, которые то и дело у него вырывались, свидетельствуя о том, что он тревожится скорее о земном, чем о небесном.
Человек, посланный с этим секретным поручением, имел не больше успеха, чем в первый раз: мистера Пекснифа тоже не оказалось дома. Тем не менее больного уложили в посте
Страница 15
ь и без мистера Пекснифа, и часа через два ему стало значительно лучше, так как приступы колик становились все реже. Мало-помалу они совсем прекратились, хотя временами больной чувствовал такую слабость, что это внушало не меньше опасений, чем самые припадки.В один из таких светлых промежутков молодая девушка и хозяйка гостиницы сидели вдвоем перед камином в комнате больного, как вдруг старик, осторожно озираясь по сторонам, приподнялся в своем пуховом гнезде и со странным выражением скрытности и недоверия принялся писать, воспользовавшись пером и бумагой, которые были положены по его приказанию на стол рядом с кроватью.
Хозяйка «Синего Дракона» была по внешности именно такова, какова должна быть хозяйка гостиницы: полная, здоровая, добродушная, миловидная, с очень белым и румяным лицом, по веселому выражению которого сразу было видно, что она и сама с удовольствием прикладывается ко всем яствам и питиям в кладовой и погребе и что они идут ей на пользу. Она была вдова, но, уже давно перестав сохнуть по мужу, успела снова расцвести и до сих пор была в полном цвету. Она и сейчас цвела как роза: розы были на ее пышных юбках, розы на груди, розы на щеках, розы на чепце – да и на губах тоже розы, и притом такие, которые очень стоило сорвать. У нее и сейчас еще были живые черные глаза и черные как смоль волосы, и вообще она была еще очень недурна – аппетитная, полненькая и крепкая, как крыжовник, – и хоть, как говорится, не первой молодости, а все же вы могли бы поклясться, даже под присягой, даже перед любым судьей или мэром, что немного найдется на свете девушек (господь с ними со всеми!), которые вам так понравились бы и так пришлись по душе, как веселая хозяйка «Синего Дракона»!
Сидя перед огнем, прелестная вдовушка по временам с законной гордостью собственницы оглядывала комнату – просторное помещение, какие нередко встречаются в деревенских домах, с низким потолком и осевшим полом, покатым от дверей вглубь, и двумя ступеньками в таком совершенно неожиданном месте, что, входя в комнату, новый человек нырял головой вперед, как в бассейн, невзирая на все предупреждения. Это была не какая-нибудь легкомысленная и возмутительно светлая спальня из нынешних, где человеку, который мыслит и чувствует в какой-то мере последовательно, просто невозможно уснуть, до того ода не соответствует своему назначению; наоборот, это было отличное, навевающее скуку и сон помещение, где каждый предмет напоминал вам, что вы пришли сюда именно затем, чтобы спать, и ничего другого от вас не ждут. Тут не было беспокойных отблесков огня, как в этих ваших модных спальнях, которые даже в самые темные ночи бьют в глаза своим французским лаком; мебель старинного красного дерева лишь время от времени подмигивала огню, как сонная кошка или собака, – только и всего. Самые размеры, формы и безнадежная неподвижность кровати, гардероба и даже стульев и столов навевали сон: они были явно апоплексического сложения и не прочь всхрапнуть. Со стен не таращились портреты, укоряя вас за леность, на пологе кровати не сидели круглоглазые, отвратительно бессонные и нестерпимо назойливые птицы. Плотные темные занавеси, глухие ставни и тяжелая груда одеял – все предназначалось для того, чтобы удерживать сон, не допуская извне света и движения. Даже старое чучело лисицы на шкафу утратило последние остатки зоркости, потому что единственный стеклянный глаз у него выпал, и оно дремало стоя.
Рассеянное внимание хозяйки «Синего Дракона» блуждало среди этих предметов, задерживаясь на каждом не больше чем на мгновение. Вскоре, однако, оно отвлеклось от мебели и даже от кровати с ее новым бременем ради юного создания, которое сидело рядом с нею, погрузившись в задумчивое молчание и не отрывая глаз от огня.
Девушка была еще очень молода, по-видимому не старше семнадцати лет, держалась застенчиво и робко, однако самообладанием и умением скрывать свои чувства она была наделена в большей степени, чем женщины даже более солидного возраста. Это она только что доказала как нельзя лучше, ухаживая за больным джентльменом. Она была невысокого роста и худенькая, как и пристало в ее годы, но вся прелесть юности и девичества украшала ее милую головку. Ее лицо было очень бледно – отчасти, надо полагать, от недавнего волнения. По той же причине слегка растрепались темно-каштановые волосы и, выбившись из прически, небрежно падали на шею, за что ни один свидетель мужского пола не решился бы ее осудить.
Она была одета как девушка из общества, но крайне просто, и даже когда сидела неподвижно, как теперь, во всем ее облике было что-то милое, вполне совпадавшее со свойственной ей скромной и непритязательной манерой одеваться. Сначала она время от времени тревожно поглядывала на кровать, но потом, убедившись, что больной успокоился и занялся писанием, тихо передвинула свой стул ближе к огню – по-видимому, инстинктивно чувствуя, что свидетели ему нежелательны; отчасти же для того, чтобы незаметно для больного дать волю своим чувствам, которые она до того сдерживала.
Вс
Страница 16
это, и даже гораздо больше, румяная хозяйка «Синего Дракона» успела заметить и понять вполне, как только женщина умеет понять женщину. Наконец она сказала, нарочно понизив голос, чтобы не слышно было больному:– Приходилось ли. вам видеть у него такие приступы раньше, мисс? Часто это с ним бывает?
– Мне приходилось видеть его больным, но никогда еще ему не бывало так плохо, как сегодня.
– Какое счастье, мисс, – сказала хозяйка «Дракона», – что все рецепты и лекарства были с вами!
– Они и предназначены для таких случаев. Мы никогда без них не путешествуем.
«Ах, вот как! – подумала хозяйка. – Эй, да вы привыкли путешествовать, да еще путешествовать вместе».
Она до такой степени боялась, как бы эта мысль не отразилась у нее на лице, что, встретившись взглядом с гостьей и будучи честной женщиной, несколько смутилась.
– Этот джентльмен… ваш дедушка… – начала она опять после короткой паузы, – он совсем не хочет никакой помощи, так что вы, должно быть, очень за него боитесь, мисс?
– Сегодня я сильно тревожилась… Он… он мне не дедушка.
– Я хотела сказать «отец», – возразила хозяйка, чувствуя, что сделала досадный промах.
– И не отец, – отвечала молодая девушка. – И не дядя, – прибавила она с улыбкой, предупреждая всякие дальнейшие догадки. – Мы с ним не родня.
– Ах ты господи! – отвечала хозяйка, смешавшись еще больше прежнего. – Как же это я могла так ошибиться, когда знаю не хуже всякого другого, что больные всегда кажутся гораздо старше своих лет! Да еще зову вас «мисс»! – Дойдя до этих слов, она невольно взглянула на левую руку девушки и опять запнулась, так как обручального кольца на среднем пальце не было.
– Когда я сказала, что мы чужие друг другу, – отвечала та кротко и также не без смущения, – это значило – совсем чужие, а стало быть, и не муж и жена. Вы звали меня, Мартин?
– Звал вас? – откликнулся старик, быстро взглянув на нее и поспешно пряча под одеяло бумагу, на которой писал. – Нет, не звал.
Она уже сделала шага два к кровати, но сразу остановилась и замерла на месте.
– Нет, не звал, – повторил он с раздражением. – Почему вы спрашиваете? Если я вас звал, то какая была бы надобность в этом вопросе?
– По-моему, сударь, это скрипела вывеска за окном, – заметила хозяйка; предположение, кстати сказать, отнюдь не лестное для голоса старого джентльмена, как она и сама почувствовала в ту же минуту.
– Не важно, что именно это было, сударыня, – возразил старик, – только не я. Ну, что же вы там стали, Мэри, как будто у меня чума! Все меня боятся! – прибавил он, бессильно откидываясь на подушку, – все, даже она! Это проклятие какое-то! Чего же еще ждать!
– Нет, нет, что вы. Конечно, нет, – сказала добродушная хозяйка, вставая и подходя к нему. – Приободритесь, сударь. Это только болезненные фантазии.
– Какие там еще болезненные фантазии? – вскинулся на нее старик. – Что вы смыслите в фантазиях? Откуда вы слышали про фантазию? Все то же! Фантазии!
– Ну вот, смотрите, вы же мне пикнуть не даете, – отвечала хозяйка «Синего Дракона» с невозмутимым добродушием. – Господи ты мой боже, ничего плохого в этом слове нет, хоть оно и старое. И у здоровых людей тоже бывают свои причуды, да еще какие странные сплошь и рядом.
Как ни была безобидна ее речь, она подействовала на недоверчивого старика, словно масло на огонь. Он поднял голову с подушки, устремил на хозяйку темные глаза, сверкание которых усиливалось бледностью впалых щек, в свою очередь казавшихся еще бледнее от черной бархатной ермолки, и впился в ее лицо пристальным взглядом.
– А не рано ли вы начинаете! – произнес он таким тихим голосом, что, казалось, скорее думал вслух, чем обращался к ней. – Однако вы не теряете времени. Вы делаете то, что вам поручено, чтобы заслужить награду? Ну-с, так кто же подослал вас?
Хозяйка в изумлении посмотрела на ту, кого он называл «Мэри», и, не найдя ответа на ее поникшем липе, опять взглянула на старика. Сначала она даже испугалась, думая, что он повредился в рассудке; однако неторопливая сдержанность его речи и твердая решимость, которая сказывалась в выражении его резко очерченной физиономии, а главное в крепко сжатых губах, убедили ее в противном.
– Ну же, – продолжал старик, – отвечайте мне, кто он такой? Впрочем, раз мы находимся здесь, мне нетрудно догадаться, можете быть уверены.
– Мартин, – вмешалась молодая девушка, кладя руку ему на плечо, – подумайте, как недолго мы пробыли в этом доме, даже имя ваше тут неизвестно.
– Если только вы… – начал он. Ему, как видно, очень хотелось высказать подозрение, что она злоупотребила его доверием, открывшись хозяйке; но, вспомнив нежные заботы девушки или растрогавшись выражением ее лица, он сдержался и, улегшись поудобнее на кровати, замолчал.
– Ну, вот! – сказала миссис Льюпин, ибо только от ее имени «Синему Дракону» разрешалось удовлетворять нужды людей и животных. – Вот теперь вы успокоитесь, сударь. Вы просто позабыли на минуту, что вас окружают одни друзья.
– Ox, – простонал старик с раздра
Страница 17
ением, беспокойно водя рукой по одеялу, – к чему вы говорите мне о друзьях? Неужели я без вас не знаю, кто мне друзья и кто – враги?– По крайней мере, – кротко настаивала миссис Льюпин, – эта молодая леди вам друг, я уверена.
– У нее нет оснований быть врагом, – отозвался старик голосом человека, окончательно потерявшего надежду и доверие к людям. – Думаю, что друг! Бог ее знает. Ну, вот что: дайте-ка мне уснуть. Свечу оставьте на месте.
Как только обе они отошли от кровати, старик вытащил бумагу, над которой трудился так долго, и сжег ее на свече дотла. Покончив с этим, он погасил свечу и, отвернувшись с тяжелым вздохом к стене, натянул одеяло на голову и затих.
Уничтожение бумаги, так странно не вязавшееся с затраченным на нее трудом и к тому же грозившее пожаром «Синему Дракону», привело миссис Льюпин в немалое замешательство. Но молодая девушка, не выказав ни удивления, ни любопытства или тревоги, шепнула ей на ухо, что побудет с больным еще немного, и, поблагодарив ее за внимание и помощь, просила не сидеть с нею, так как она привыкла быть одна и скоротает время за чтением.
Миссис Льюпин полностью, и даже с процентами, унаследовала ту законную долю любопытства, какая полагается прекрасному полу, и во всякое другое время, вероятно, было бы не так-то легко заставить ее понять этот намек. Но сейчас, растерявшись от изумления перед всеми этими загадками, она немедленно покинула комнату и отправилась, нигде не задерживаясь, вниз, в свою маленькую гостиную, где и уселась в кресло с неестественным для нее спокойствием. Как раз в эту критическую минуту послышались шаги в коридоре и мистер Пексниф, умильно улыбаясь, заглянул через невысокий прилавок на открывавшуюся глазам перспективу уюта и комфорта и прошептал:
– Добрый вечер, миссис Льюпин!
– Боже мой, сэр! – воскликнула она, вставая ему навстречу. – Как я рада, что вы пришли!
– И я тоже очень рад, что пришел, – отвечал мистер Пексниф, – если могу быть полезным. Я очень рад, что пришел. В чем дело, миссис Льюпин?
– Один джентльмен заболел в дороге и остановился у меня, он лежит наверху и очень плох, – отвечала сквозь слезы хозяйка.
– Один джентльмен заболел в дороге, лежит наверху и очень плох, вот как? – повторил мистер Пексниф. – Ну-ну!
В этом замечании не было решительно ничего такого, что можно было бы назвать оригинальным, нельзя также сказать, чтобы в нем содержалась какая-нибудь особенная мудрость, дотоле неизвестная человечеству, или чтобы оно открывало какой-нибудь неведомый источник утешения. Но мистер Пексниф смотрел так благосклонно и кивал головой так успокоительно, и во всей его обходительной манере сквозило такое чувство собственного превосходства, что и всякий на месте миссис Льюпин утешился бы от одного присутствия и звука голоса такого человека; и хотя бы он сказал всего-навсего, что «глагол должен согласоваться в роде и числе с существительным, любезный мой друг», или что «восемью восемь шестьдесят четыре, почтеннейший», – все же слушатель был бы глубоко благодарен мистеру Пекснифу за его мудрость и человеколюбие.
– А сейчас как он себя чувствует? – спросил мистер Пексниф, стаскивая перчатки и грея руки перед огнем с таким сострадательным видом, как будто это были чьи-то чужие руки, а не его собственные.
– Ему легче, он успокоился, – отвечала миссис Льюпин.
– Ему легче, и он успокоился, – произнес мистер Пексниф. – Хорошо, оч-чень хорошо!
И тут опять, хотя это утверждение принадлежало миссис Льюпин, а не мистеру Пекснифу, мистер Пексниф присвоил его себе и утешил им миссис Льюпин. В устах миссис Льюпин это было не бог весть что, а в устах мистера Пекснифа – целое откровение. «Я замечаю, – казалось, говорил он, – а через мое посредство и все нравственное человечество в целом усматривает, что ему легче и он успокоился».
– А все-таки что-то, должно быть, тяготит его совесть, – сказала хозяйка, покачивая головой, – потому что разговор у него, сударь, до того чудной, что вы такого и не слыхивали. Видно, на душе у него очень нелегко и он нуждается в совете такого человека, который по добродетели своей мог бы ему помочь.
– Тогда, – заметил мистер Пексниф, – я самый подходящий для этого человек. – Он сказал это как нельзя более ясно, хотя не произнес ни слова. Он только покачал головой, как бы не доверяя собственным силам.
– Я опасаюсь, сэр, – продолжала хозяйка, сперва оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь, а потом опустив глаза в землю, – очень опасаюсь, сэр, что совесть его не совсем спокойна оттого, что он не родственник… и… и даже не муж… Этой молоденькой леди…
– Миссис Льюпин! – произнес мистер Пексниф, воздевая руку кверху с выражением настолько близким к суровости, насколько это было совместимо с кротостью его характера. – Особе! Молодой особе?
– Очень молодой особе, сэр, – поправилась миссис Льюпин и присела, краснея, – извините меня, сэр, я сама не знаю, что говорю, так я нынче расстроена, – которая и сейчас при нем.
– Которая и сейчас при нем,
Страница 18
– размышлял вслух мистер Пексниф, грея себе спину точно так же, как он грел себе руки: будто это была вдовья спина, или сиротская спина, или спина его врага, или вообще чья-то чужая спина, которую менее добродетельный человек преспокойно оставил бы зябнуть. – О боже мой, боже мой!– А в то же время я должна сказать, и говорю по чистой совести, – заметила серьезно хозяйка, – что по виду и манерам она не внушает подозрений.
– Ваши подозрения, миссис Льюпин, – важно сказал мистер Пексниф, – вполне естественны.
Что касается этого замечания, то да будет здесь отмечено в укор врагам достойного человека, что они всегда утверждали не краснея, будто мистер Пексниф находил все дурное вполне естественным и, поступая таким образом, невольно разоблачал самого себя.
– Ваши подозрения, миссис Льюпин, – повторил он, – вполне естественны и, я не сомневаюсь, весьма основательны. Я зайду к этим вашим постояльцам.
С этими словами он снял пальто и, проведя пальцами по волосам, скромно заложил руку за жилет и слегка кивнул головой хозяйке, чтобы она шла вперед.
– Постучаться сначала? – спросила миссис Льюпин, останавливаясь у дверей спальни.
– Нет, – ответил мистер Пексниф, – войдите так, пожалуйста.
Они вошли на цыпочках, – вернее, хозяйка приняла эту предосторожность, ибо мистер Пексниф всегда ходил бесшумно. Пожилой джентльмен все еще спал, а его молоденькая спутница все еще сидела с книжкой перед камином.
– Боюсь, – сказал мистер Пексниф, останавливаясь в дверях и сообщая своей голове меланхолический наклон, – боюсь, что это выглядит не совсем естественно. Боюсь, миссис Льюпин, что тут какая-то хитрость.
Прошептав эти слова, он выступил вперед, заслоняя хозяйку; и в ту же минуту, услышав шаги, молодая девушка поднялась с места. Мистер Пексниф бросил быстрый взгляд на книгу, которую она держала в руках, и снова шепнул миссис Льюпин, с еще большим прискорбием:
– Да, сударыня, книга душеспасительная. Я заранее опасался этого. Я так и предчувствовал, что перед нами весьма хитрая особа!
– Кто этот джентльмен? – спросил предмет его добродетельных сомнений.
– Т-с-с! Не беспокойтесь, сударыня, – остановил мистер Пексниф хозяйку, которая собиралась что-то ответить. – Эта молодая… – он все же не решился произнести слово «особа» и заменил его другим, – эта молодая незнакомка, миссис Льюпин, извинит меня, если я отвечу кратко, что живу в этой деревне, быть может пользуюсь Здесь некоторым влиянием, хотя и незаслуженно, и что я пришел сюда по вашему зову. Я пришел сюда, как обычно, из сочувствия к больным и страждущим.
С этими внушительными словами мистер Пексниф приблизился к постели больного и, торжественно похлопав раза два по одеялу, как будто этим способом достигалось полное проникновение в сущность болезни, уселся в мягкое кресло, где стал дожидаться пробуждения пациента в некоторой задумчивости и со всеми удобствами. Какие бы возражения ни услышала миссис Льюпин от молодой девушки, дальше нее это не пошло, ибо мистеру Пекснифу ничего не было сказано и сам мистер Пексниф больше никому не сказал ни слова.
Прошло целых полчаса, прежде чем старик пошевелился, но, наконец, он заворочался на кровати и, хотя еще не совсем проснулся, по некоторым признакам видно было, что сон его близок к концу. Одеяло постепенно сползло с его головы, и он повернулся в ту сторону, где сидел мистер Пексниф. Через некоторое время его глаза открылись, и он лежал несколько секунд, сонно глядя на своего гостя, не отдавая себе ясного отчета в его присутствии.
В этом пробуждении не было ничего замечательного, если не считать впечатления, произведенного им на мистера Пекснифа: он наблюдал его, как наблюдают какое-нибудь чудо природы. Его руки все сильнее и сильнее сжимали подлокотники кресла, глаза округлились от изумления, рот раскрылся, волосы надо лбом встопорщились более обыкновенного, и, наконец, когда старик сел на кровати и уставился на Пекснифа, не менее его ошеломленный, все колебания этого добродетельного человека исчезли, и он громко воскликнул:
– Это Мартин Чезлвит!
И тут же замер в изумлении, настолько неподдельном, что старик, как ни был он расположен считать это изумление притворным, должен был убедиться в его искренности.
– Да, я Мартин Чезлвит, – ответил он ворчливо, – я Мартин Чезлвит, и желаю, чтобы вас повесили, а то ходите тут и не даете мне спать. Он даже приснился мне, этот молодчик, – сказал он, опять ложась и отворачиваясь к стене, – а ведь я еще и знать не знал, что он сидит тут, рядом со мной.
– Любезный кузен… – произнес мистер Пексниф.
– Ну вот! С самых первых слов! – заворчал старик, беспокойно повертывая седую голову то вправо, то влево и вскидывая руки кверху. – С самых первых слов он уже навязывается мне в родню! Так я и знал, все они на один лад! Близкие или дальние, кровная родня или седьмая вода на киселе, – всегда одно и то же. Уф! А ведь стоит моим родственничкам слово сказать, и какой длинный развертывается список обманов, подвохов и интриг.
– Прошу вас, не суд
Страница 19
те обо мне опрометчиво, мистер Чезлвит, – сказал Пексниф тоном как нельзя более сострадательным и в то же время как нельзя более беспристрастным, ибо он уже успел прийти в чувство и вполне овладел собой и всеми своими добродетелями. – Вы пожалеете о своей опрометчивости, я уверен.– Он уверен! – презрительно заметил Мартин.
– Да, – отвечал мистер Пексниф. – Именно, именно, мистер Чезлвит! И напрасно вы думаете, сэр, что я собираюсь вам льстить иди заискивать перед вами, – я как нельзя более далек от этого. Вам нечего опасаться, сэр, что я повторю то неприятное слово, которое вас так задело. Да и к чему бы это? Разве я жду от вас чего-нибудь или мне что-нибудь нужно? Насколько мне известно, вы не обладаете ничем таким, что давало бы вам счастье и чему я мог бы позавидовать.
– Это, пожалуй, верно, – проворчал старик.
– Помимо этих соображений, – продолжал мистер Пексниф, зорко наблюдая за действием своих слов, – вам должно быть достаточно ясно, что, если бы я хотел втереться к вам в доверие, я бы прежде всего остерегся обращаться к вам как к родственнику, зная ваши взгляды и будучи убежден наперед, что хуже этого я не мог бы представить рекомендации.
Мартин не удостоил его ответом, но так ясно дал понять одним движением ноги под одеялом, что это резонно и что спорить с этим он не намерен, как если бы выразил свое мнение в самой обстоятельной речи.
– Нет, – сказал мистер Пексниф, закладывая руку за жилет и словно готовясь предъявить свое сердце Мартину Чезлвиту по первому его требованию, – я пришел сюда с тем, чтобы предложить свои услуги незнакомцу. Я не предлагаю их вам, ибо знаю, что вы отнеслись бы ко мне с недоверием. Но пока вы прикованы к этой кровати, сэр, я смотрю на вас, как на постороннего человека, и интересуюсь вами совершенно так же, как интересовался бы посторонним при тех же обстоятельствах. Помимо же этого – вы мне безразличны, мистер Чезлвит, так же, как я вам.
Сказав это, мистер Пексниф откинулся на спинку кресла, сияя таким чистосердечным простодушием, что миссис Льюпин удивилась, почему вокруг его головы нет сияния, как у святых.
Последовало долгое молчание. Старик с возрастающим беспокойством ворочался на кровати с боку на бок. Миссис Льюпин и молодая девушка молча смотрели на одеяло. Мистер Пексниф рассеянно поигрывал лорнетом, Закрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться.
– Что? – неожиданно произнес он, открывая глаза и устремляя их на больного. – Прошу прощения. Мне показалось, что вы заговорили. Миссис Льюпин, – продолжал он, неторопливо поднимаясь с места, – не думаю, чтобы я мог быть чем-нибудь здесь полезен. Джентльмену теперь легче, а другой такой сиделки, как вы, ему не найти. Что?
Это последнее восклицание относилось к старику, который опять переменил положение и теперь повернулся лицом к мистеру Пекснифу, в первый раз за все время разговора.
– Если вы желаете что-нибудь сказать мне, сэр, прежде чем я уйду, – продолжал мистер Пексниф после новой паузы, – можете располагать моим временем, но при условии, что вы будете разговаривать со мной как с посторонним, – только как с посторонним.
Если мистер Пексниф понял по какому-нибудь движению Мартина Чезлвита, что тот желает с ним говорить, то судить об этом он мог, лишь исходя из правил, па которых обычно строится мелодрама и в силу которых старик фермер и его сын простак всегда понимают, что хочет сказать немая девушка, когда, выбежав к ним в сад, она повествует о своих злоключениях в совершенно невразумительной пантомиме. Однако Мартин Чезлвит не спрашивал ни о чем и только сделал своей молодой спутнице знак удалиться, после чего она немедленно вышла из комнаты вместе с хозяйкой, оставив его наедине с мистером Пекснифом. Некоторое время они молча глядели друг на друга, или скорее старик глядел на мистера Пекснифа, ибо мистер Пексниф опять закрыл глаза и, отвратясь от предметов материального мира, устремил духовный взор в недра собственной души. Что это занятие щедро вознаграждало его за труды и раскрывало перед ним завлекательную и восхитительную перспективу, было видно по выражению его лица.
– Вы желаете, чтобы я разговаривал с вами, как с совершенно посторонним лицом, – начал старик, – не так ли?
Мистер Пексниф легким пожатием плеч и едва заметным движением век дал понять, не открывая глаз, что он по-прежнему вынужден на этом настаивать.
– Пусть будет по-вашему, – сказал Мартин. – Сэр, я человек богатый. Не настолько богатый, как полагают некоторые, но все же состоятельный. Я не скряга, сэр, хотя, как я слышал, меня обвиняют и в этом, и многие этому верят. Я не вижу никакой радости в том, чтобы владеть деньгами. Дьявол, именуемый богатством, не может принести мне ничего, кроме несчастья.
Вряд ли было бы правильно, говоря о скромности манер мистера Пекснифа, сослаться на распространенную поговорку и сказать, что с виду он и воды не замутит или что во рту у него даже масло не тает. Наоборот, с виду казалось, что из мистера Пекснифа можно наделать уйму масла, сбивая млеко гуманности и бла
Страница 20
ожелательности, бившее фонтаном из его сердца.– Но именно по той же причине, почему я не коплю денег, – продолжал старик, – я и не швыряю их зря. Иные находят отраду в том, чтобы копить их, другие – в том, чтобы тратить; меня же это не прельщает. Кроме забот и огорчений, деньги мне ничего принести не могут. Я ненавижу их. Они, словно призрак, маячат передо мной повсюду и отравляют всякое удовольствие общения с людьми.
Очевидно, в голове мистера Пекснифа мелькнула некая мысль, которая в ту же минуту отразилась и на его физиономии, иначе Мартин Чезлвит не закончил бы свою речь так отрывисто и так сурово:
– Вы, конечно, посоветовали бы мне, ради моего душевного спокойствия, расстаться с этим источником всех зол и передать деньги другому, кому они не были бы в тягость. Даже вы, быть может, согласились бы взять на себя бремя, которое гнетет меня так тяжко. Однако, любезный незнакомец и добрый христианин, – продолжал старик, и лицо его потемнело при этих словах, – в этом-то и заключается главное мое горе. Мне известно, что деньги немало приносят и добра; мне известно, что они не раз помогали торжествовать победу, в них справедливо видят магический ключ, отмыкающий врата, преграждающие путь к мирским почестям, радостям и счастью. Какому же человеку, какому достойному, честному, неподкупному существу могу я доверить подобный талисман теперь или после моей смерти? Знаете ли вы такое лицо? Ваши добродетели, конечно, неоценимы, но можете ли вы указать мне другое человеческое существо, которое безнаказанно выдержало бы общение со мной?
– Общение с вами, сэр? – эхом отозвался мистер Пексниф.
– Да, – повторил старик, – выдержало бы общение со мной – со мной! Вы слышали о несчастном, который, во исполнение собственной неразумной просьбы, превращал в золото все, к чему прикасался? Проклятие моей жизни в том, что исполнилось и мое безрассудное желание, и я осужден испытывать людей золотом и находить в них фальшь и пустоту.
Мистер Пексниф покачал головой и сказал:
– Вам так кажется.
– О нет, не кажется! – воскликнул старик. – Да и в ваших словах «вам так кажется» я слышу подлинный звон металла, из которого вы отлиты. Поймите, любезнейший, – добавил он еще более горько, – что мне, ныне богатому человеку, пришлось на своем веку иметь дело со всякими людьми: с родней, чужими и знакомыми; с людьми, которым я доверял, будучи беден, и доверял справедливо, ибо тогда они еще не обманывали меня и не чернили друг друга. Но ни разу не довелось мне, одинокому богачу, столкнуться с человеком – нет, нет, ни разу, – в котором я не обнаружил бы скрытой гнили, до времени затаившейся и ждущей только случая, чтобы выйти наружу. Предательство, обман, низкие происки, ненависть к действительным или воображаемым соперникам, добивающимся моих милостей, корысть, ложь, низость и раболепство или, – и тут он зорко посмотрел в глаза своему родственнику, – притворная честность и независимость, что едва ли не хуже, – вот те прелести, какие вывело на чистую воду мое богатство. Брат против брата, сын против отца, друзья, попирающие ногами друзей, – вот общество, в котором я провел всю свою жизнь. Существуют рассказы, – не знаю, сказка они или быль, – о богачах, переодетых нищими, которые разыскивают добродетель и, найдя, вознаграждают ее. Глупцы и простаки, сколько труда они затратили понапрасну! Им следовало бы пускаться на такие поиски в своем собственном обличье. То-то была бы достойная цель для всяких низких и грабительских происков, для интриг и обольщений со стороны своры мошенников, которые с радостью стали бы плевать на гроб одураченной жертвы; тогда эти поиски добродетели окончились бы тем же, чем окончились мои; и искатели пришли бы к тому же, к чему пришел теперь я.
Мистер Пексниф решительно не знал, что на это ответить; во время последовавшей короткой паузы он всеми силами старался показать, будто бы собирается изречь нечто достойное оракула, будучи твердо уверен, что старик прервет его на полуслове. И он не ошибся; Мартин Чезлвит, переведя дыхание, продолжал:
– Выслушайте меня до конца; посудите сами, какой выгоды можете вы добиться повторениями этого визита. и оставьте меня в покое. Я до такой степени развратил и испортил натуру каждого, кто соприкасался со мной, сея вокруг себя корыстные помыслы и надежды; я породил столько раздоров и свар, даже в пределах собственной семьи, в мирном кругу родных; я, словно пылающий факел, столько раз воспламенял взрывчатые газы и пары домашней атмосферы, которые без меня остались бы непотревоженными, – что в конце концов я попросту бежал от всех, кто меня знает, и, скрываясь в безвестных убежищах, все последнее время жил жизнью изгнанника. Молодая девушка, которую вы только что видели… Ага! Ваши глаза загорелись, не успел я заговорить о ней! Вы уже ненавидите ее, вот как!
– Даю вам честное слово, сэр… – сказал мистер Пексниф, прикладывая руку к сердцу и опуская глаза.
– Я забыл, – воскликнул старик, глядя на мистера Пекснифа таким проницательным взором, что тот его почувс
Страница 21
вовал, хотя и не поднимал глаз и не мог его видеть, – прошу прощения. Я забыл, что вы мне совсем чужой. На минуту вы мне напомнили некоего Пекснифа, моего родственника. Как я уже говорил вам, молодая девушка, которую вы только что видели, – это сиротка, которую я взрастил и воспитал, или удочерил, если вам больше нравится это слово, с совершенно особой целью. Уже с год или более того она моя постоянная спутница, а с недавних пор и единственная. Она знает, что я дал торжественную клятву не оставлять ей по завещанию ни гроша; но пока я жив, она получает годовое содержание, не слишком щедрое и не слишком скаредное. Мы уговорились избегать ласковых и льстивых обращений, она всегда будет звать меня по имени, так же как и я ее. Пока я жив, она связана со мной узами выгоды, а так как моя смерть не сулит ей напрасных надежд, – напротив, она все потеряет, – то, быть может, она и станет меня оплакивать, хотя я об этом мало тревожусь. Это единственный друг, какого я могу иметь теперь или в будущем. Судите же сами, много ли выгод принесет вам час, проведенный со мною, и оставьте меня, чтобы не возвращаться больше.С этими словами старик медленно опустился на подушки. Мистер Пексниф так же медленно поднялся с места и, предварительно кашлянув, начал:
– Мистер Чезлвит!
– Ну вот! Уходите! – прервал его старик. – Довольно с меня. Вы мне надоели.
– Меня это огорчает, сэр, – возразил мистер Пексниф, – потому что я должен исполнить долг, от которого не отступлю, можете быть уверены. Да, сэр, не отступлю ни за что.
Как это ни прискорбно, но когда мистер Пексниф стал перед кроватью, выпрямившись во весь рост и адресуясь к старику во всем величии добродетели, тот бросил яростный взгляд на подсвечник, словно испытывая сильнейшее желание запустить им в голову своего кузена. Однако он сдержался и показал гостю пальцем на дверь, словно давая понять, что именно туда ему следует выйти.
– Благодарю вас, – сказал мистер Пексниф. – Я сам это знаю и сейчас уйду. Но сперва я просил бы, чтобы вы позволили мне высказаться; мало того, мистер Чезлвит, вы должны – да, да, я повторяю! – должны меня выслушать. То, что вы сообщили мне сегодня, нисколько не удивило меня, сэр. Все это естественно, вполне естественно, и по большей части было известно мне и раньше. Не стану говорить, – продолжал мистер Пексниф, извлекая носовой платок и мигая обоими глазами сразу, как бы против воли, – не стану говорить, что вы во мне ошиблись. Пока вы находитесь в таком настроении, я ни за что этого не скажу. Право, я хотел бы, чтобы у меня был другой характер и чтобы я мог подавить даже вот это невольное признание в слабости, которую я не в силах скрыть от вас, но которую считаю унизительной и которую вы по доброте своей простите мне. Если вам угодно, – прибавил мистер Пексниф со слезой в голосе, – мы припишем это простуде, или понюшке табаку, или нюхательным солям, или луку – чему угодно, только не истинной причине.
Тут он помолчал с минуту и спрятал лицо в платок. Потом улыбнулся как бы через силу и, ухватившись одной рукой за столбик кровати, продолжал: – Но, мистер Чезлвит, хотя я готов забыть о себе, тем не менее должен сказать вам ради себя самого, ради своей репутации – да, сэр, у меня есть репутация, которую, как высшее достояние, я оставлю в наследство своим двум дочерям, – я должен сказать вам, не в своих интересах, но в интересах другого, что ваше поведение дурно, противоестественно, чудовищно, что ему нет никакого оправдания. И еще скажу вам, сэр, – продолжал далее мистер Пексниф, паря на цыпочках между занавесями кровати и как бы воочию возносясь над корыстными расчетами мира, так что, казалось, не держись он крепко за столбик, почтенный джентльмен ракетою взвился бы к небесам, – скажу без страха и пристрастия, что вам не подобает забывать вашего внука, молодого Мартина, который имеет на вас все права самого близкого родственника. Это не годится, сэр, – повторил мистер Пексниф, качая головой. – Вы, может быть, думаете, что годится, – но это не годится. Вы, конечно, позаботитесь о молодом человеке: вы должны позаботиться о нем, и это вам известно. Я уверен, – продолжал мистер Пексниф, бросая взгляд на перо и чернила, – что вы и сами уже обо всем подумали. Благослови вас господь за это. За то, что вы поступили как должно. За то, что вы ненавидите меня. И спокойной вам ночи!
Свою речь мистер Пексниф закончил торжественным мановением правой руки, после чего снова заложил эту руку за борт жилета и удалился. По всему видно было, что он взволнован, но походка его оставалась твердой. Не чуждый человеческим слабостям, он находил опору в сознании, что совесть его чиста.
Мартин Чезлвит некоторое время лежал молча, и лицо его выражало немое изумление, которое пересиливало гнев; наконец он пробормотал едва слышно:
– Что это значит? Неужели вероломный мальчишка избрал своим орудием наглеца, который только что вышел отсюда? Почему же нет? Ведь он тоже в заговоре против меня, как и все прочие: оба они одного поля ягоды. Опять козни, опять к
Страница 22
зни! О эгоизм, эгоизм! Куда ни повернись, ничего кроме эгоизма!Некоторое время он молчал и только перебирал пальцами сожженную бумагу на подсвечнике. Он перебирал ее в полном рассеянии, затем и мысли его обратились к этой бумаге.
– Еще одно завещание составлено и уничтожено, – пробормотал он, – ничего не решено, ничего не сделано, а ведь я… мог умереть сегодня! Вижу ясно, каким гнусным целям послужат в конце концов эти деньги, – восклицал он, чуть ли не корчась в постели. – Всю мою жизнь я не знал ничего, кроме забот и горя из-за этих денег, да и после моей смерти они будут возбуждать только раздор и вражду. Так всегда бывает. Какие тяжбы произрастают повседневно на могилах богачей! Сколько сеется лжи, ненависти, раздоров среди близких родных, там, где нет места ничему, кроме любви. Горе нам, ибо за многое нам придется ответить! О эгоизм, эгоизм! Каждый за себя, а за меня – никто!
Вездесущий эгоизм! Но разве не было какой-то доли эгоизма и в этих размышлениях; да и во всей истории Мартина Чезлвита, по собственному его свидетельству?
Глава IV,
из которой следует, что если в единении сила и родственные чувства приятно видеть, то род Чезлвитов надо считать самым сильным и самым приятным на свете
Итак, сей достойнейший муж, мистер Пексниф, распрощавшись со своим кузеном в торжественных выражениях, запечатленных в предыдущей главе, отправился к себе домой, где и просидел целых три дня, не отваживаясь даже на прогулку за пределами собственного сада, из боязни, как бы его в это время не вызвали спешно к одру провинившегося и кающегося родственника, которого мистер Пексниф, по своему великому милосердию, решил простить без всяких оговорок и любить на каких угодно условиях. Но таковы были упрямство и озлобление сурового старика, что покаянного зова не последовало, и четвертый день ожидания застал мистера Пекснифа гораздо дальше от его благочестивой цели, чем первый.
В продолжение всего этого времени он забегал в «Дракон» в любой час дня и ночи и, платя добром за зло, справлялся о здоровье закоснелого упрямца, проявляя величайшее внимание к нему, так что миссис Льюпин, видя такую бескорыстную заботу, совсем расчувствовалась, – ибо в разговорах с ней он неукоснительно подчеркивал, что сделал бы то же самое и для чужого человека, даже для нищего, если б тот находился в таком положении, – и пролила немало умиленных и восторженных слез.
Тем временем старый Мартин Чезлвит сидел у себя запершись, не видясь ни с кем, кроме своей юной спутницы да еще хозяйки «Синего Дракона», которую допускали к нему в иных случаях. Однако, как только она входила в комнату, Мартин притворялся, будто спит, и до тех пор не отвечал ни слова даже на самый простой вопрос, пока его не оставляли наедине с молодой девушкой, хотя мистеру Пекснифу, который усердно подслушивал у дверей, удалось-таки установить, что с ней старик бывал довольно разговорчив.
Вечером четвертого дня случилось так, что мистер Пексниф, войдя, по обыкновению, в общую залу «Дракона» и не застав там миссис Льюпин, прошел прямо наверх, намереваясь, в пылу христианского усердия, приложить ухо к замочной скважине и, душевного спокойствия ради, удостовериться в том, что жестокосердый пациент чувствует себя хорошо. Случилось так, что мистер Пексниф, тихонько войдя в темный коридор, куда сквозь упомянутую замочную скважину обычно падал косой луч света, к своему изумлению не увидел этого луча; а далее случилось так, что мистер Пексниф, найдя ощупью дорогу к дверям спальни и нагнувшись второпях, чтобы удостовериться путем личного осмотра, не велел ли старик, по своей подозрительности, заткнуть скважину изнутри, – так сильно столкнулся головой с кем-то другим, что не мог не испустить довольно громкого восклицания «ой!», исторгнутого у него чувством страха. И, наконец, случилось так, что мистер Пексниф немедленно вслед за этим был схвачен за шиворот неведомой силой, которая издавала смешанный запах мокрых зонтиков, пивной бочки, горячего грога и насквозь прокуренного трактирного помещения, и без всяких околичностей отведен вниз, в ту самую залу, откуда только что пришел и где он теперь очутился лицом к лицу с совершенно незнакомым ему джентльменом престранной наружности, который одной рукой держал мистера Пекснифа за шиворот, а другой, свободной, изо всех сил растирал себе голову, глядя на него довольно свирепо.
По наружности незнакомца можно было отнести к тому разряду людей, который принято именовать «благородной бедностью», хотя, судя по одежде, нельзя было сказать, что он находится в стесненных обстоятельствах: наоборот, пальцы у него свободно вылезали из перчаток, а подошвы сапог существовали почти самостоятельно, отделившись от головок. Его невыразимые были голубовато-серого цвета – когда-то очень яркого, а теперь потускневшего от времени и грязи, – и тик туго натянуты, в силу противодействия подтяжек и штрипок, что, казалось, готовы были в любую минуту лопнуть на коленках. Его синяя венгерка военного покроя, со шнурами, была застегнута на все
Страница 23
уговицы до самого подбородка, а шейный платок цветом и узором напоминал те салфетки, какими парикмахеры обычно подвязывают своих клиентов, совершая над ними профессиональное таинство. Его шляпа дошла до такого состояния, что весьма затруднительно было бы решить, какого цвета она была вначале – белая или черная. При всем том он носил усы – и даже очень щетинистые усы, не то чтобы мягкие и снисходительные, но довольно свирепого и надменного фасона, поистине дьявольские усы, а сверх того целую копну нечесаных волос. Он был очень грязен и очень нахален, очень дерзок и очень угодлив, – словом, это был человек, который мог бы добиться в жизни чего-то лучшего и несомненно заслуживал гораздо худшего.– Вы подслушивали у дверей, негодяй вы этакий! – сказал незнакомец.
Но мистер Пексниф пренебрег им, как, вероятно, Георгий Победоносец пренебрег драконом, когда это чудовище находилось при последнем издыхании; не удостоив его ответом, он сказал:
– Где миссис Льюпин, хотел бы я знать? Неужели этой доброй женщине неизвестно, что здесь находится человек, который…
– Постойте! – воскликнул джентльмен. – Одну минуту! А если ей известно? Что тогда?
– Что тогда? – воскликнул мистер Пексниф. – Что тогда? Знаете ли вы, сэр, что я друг и родственник этого больного джентльмена? Что я его защитник, его покровитель, его…
– Но все-таки не муж его племянницы, – прервал незнакомец, – это уж наверняка, потому что он побывал здесь раньше вас.
– То есть как это? – удивленно и негодующе вопросил мистер Пексниф. – Что вы мне рассказываете, сэр?
– Одну микутку! – воскликнул тот. – Может быть, вы кузен? Тот, что живет в здешних местах?
– Да, я кузен, который живет в здешних местах, – отвечал достойный человек.
– Ваша фамилия Пексниф? – спросил незнакомец.
– Да, это моя фамилия.
– Честь имею представиться и прошу вашего прощения, сэр, – сказал незнакомец, дотрагиваясь до шляпы, а затем ныряя под шейный платок в поисках воротничка, который, однако, ему не удалось извлечь на поверхность. – Вы видите перед собой человека, который тоже интересуется тем джентльменом, что наверху. Одну минуту.
Сказав это, он приставил палец к кончику своего римского носа, в знак того, что собирается посвятить мистера Пекснифа в какую-то тайну, потом, сняв шляпу, начал рыться в тулье, где было много измятых бумажонок и каких-то мелких клочков, похожих на сигарные обертки, и, наконец, выбрал среди них конверт от старого письма, порядком засаленный и насквозь пропахший табаком.
– Прочтите вот это, – сказал он, подавая конверт мистеру Пекснифу.
– Адресовано эсквайру Чиви Слайму, – возразил Пексниф.
– Я думаю, вы знаете эсквайра Чиви Слайма? – спросил незнакомец.
Мистер Пексниф пожал плечами, как бы говоря:
«Я знаю, что есть такое лицо, – к моему величайшему прискорбию».
– Очень хорошо, – заметил джентльмен. – Это и привело меня сюда, это меня и интересует. – Тут он опять нырнул за воротничком и вытащил какую-то веревочку.
– Весьма огорчительно, друг мой, – сказал мистер Пексниф, покачивая головой и безмятежно улыбаясь, – весьма огорчительно, но я вынужден сказать вам, что вы не то лицо, за которое себя выдаете. Я знаю мистера Слайма, друг мой, и, право, зря вы это, совсем ни к чему: самая лучшая политика – честность.
– Постойте! – воскликнул джентльмен, простирая вперед руку в таком узком и тесном рукаве, что она походила на суконную колбасу. – Одну минуту!
Он замолчал и, не теряя времени, расположился поудобнее перед огнем, став к нему спиной. Затем, забрав полы венгерки в левую руку и поглаживая усы большим и указательным пальцами правой, руки, продолжал:
– Я понимаю вашу ошибку и не обижаюсь. Почему? Потому что она мне льстит. Вы полагаете, что я выдаю себя за Чиви Слайма. Сэр, если есть на свете человек, на которого лестно и почетно быть похожим всякому джентльмену, то этот человек мой друг Слайм. Потому что это самый великодушный, самый независимый, самый оригинальный, самый образованный, самый даровитый, самый возвышенный ум и самый шекспировский, если не мильтоновский, характер, какой мне известен, и в то же время – это самый распоследний неудачник, заслуг которого, к сожалению, не признают. Нет, сэр, я не настолько тщеславен, чтобы выдавать себя за Слайма. Ни одному человеку на свете я не уступлю ни в чем; но Слайм, признаюсь откровенно, человек много выше меня. И, следовательно, вы не правы.
– Я судил на основании этого, – сказал мистер Пексниф, протягивая ему конверт.
– Не сомневаюсь, – отвечал джентльмен. – Видите ли, мистер Пексниф, все дело здесь в особенностях, свойственных гению. У всякого истинного гения свои особенности. Сэр, особенность моего друга Слайма в том, что он всегда ко всему готов и пребывает в ожидании. Пребывать в ожидании – свойственно ему, сэр. Он и сейчас пребывает в ожидании, тут, за дверью. Вот это и есть, – заключил незнакомец, потрясая указательным пальцем у себя перед носом, расставляя ноги пошире и в то же время не сводя внимательного взгляда с мистера Пексн
Страница 24
фа, – это и есть самая замечательная и любопытная черта характера мистера Слайма; и когда будут описывать жизнь мистера Слайма, биографу придется как следует развить эту черту, иначе общество будет разочаровано. Заметьте, общество будет разочаровано. Мистер Пексниф кашлянул.– Биограф Слайма, сэр, кто бы он ни был, – продолжал джентльмен, – должен обратиться ко мне или, если я удалюсь в этот самый, как его, откуда нет возврата, пускай адресуется к моим душеприказчикам за разрешением порыться в моих бумагах. Этой слабой рукой я сделал кое-какие записи о некоторых делах мистера Слайма – моего названого брата, – они изумят вас, сэр. Не далее как пятнадцатого числа прошлого месяца, не будучи в состоянии уплатить по маленькому счету, он употребил одно выражение, сэр, которое было бы вполне уместно в воззваниях Наполеона Бонапарта к французской армии.
– А скажите, пожалуйста, – спросил мистер Пексниф, видимо чувствуя себя не совсем ловко, – какие, смею спросить, у мистера Слайма могут быть здесь дела? Хотя, ради моей репутации, мне бы не следовало интересоваться его делами.
– Во-первых, – отвечал джентльмен, – разрешите мне сказать, что я против этого замечания и отвергаю его безусловно, отвергаю с негодованием, от лица моего друга Слайма. Во-вторых, позвольте представиться. Моя фамилия – Тигг. Имя Монтегю Тигг, быть может, знакомо вам, сэр, в связи со славными событиями испанской войны[15 - …в связи со славными событиями испанской войны… – О какой испанской войне идет речь – не ясно. Мистер Тигг-старший мог участвовать в войне Испании с Англией (1779–1783) и в Испано-Португальской войне 1801 года.]?
Мистер – Пексниф нерешительно покачал головой.
– Не беда, – сказал джентльмен. – Это был мой отец. и я ношу его имя. И потому я горд, горд, как Люцифер. Извините меня, одну минуту. Мне хотелось бы, чтобы мой друг Слайм присутствовал при окончании нашей беседы.
Сделав это заявление, он побежал к выходу и в самом скором времени вернулся с приятелем, несколько пониже его ростом, облаченным в синий камлотовый плащ на полинялой красной подкладке. От долгого ожидания на холоде его резкие черты сильно заострились и осунулись, растрепанные рыжие бакенбарды и нечесаные волосы взлохматились еще больше, – словом, неказистого и неряшливого в нем было гораздо больше, чем шекспировского или мильтоновского.
– Так вот, – сказал мистер Тигг, похлопывая своего симпатичного друга по плечу одной рукой, а другой призывая мистера Пекснифа к вниманию, – вы с ним родня, а родственники никогда не ладили между собой и не будут ладить, в чем я вижу мудрое предопределение и естественную необходимость, иначе все вращались бы только в семейном кругу и надоели бы друг другу до смерти. Будь вы с ним в ладах, мне бы это показалось адски подозрительным, но по тому, как дело обстоит между вами сейчас, я вижу, что оба вы чертовски разумные ребята и с вами можно столковаться о чем угодно.
Тут мистер Чиви Слайм, великие таланты которого, по-видимому, находились по ту сторону морали и заключались в подлости, украдкой толкнул своего приятеля в бок и что-то шепнул ему на ухо.
– Чив, – отвечал мистер Тигг тоном человека, не терпящего вмешательства в свои дела, – сейчас дойду и до этого. Или я сам за все отвечаю, или вовсе ни за что не берусь. Я совершенно уверен, что мистер Пексниф не откажется одолжить человеку ваших дарований такую ничтожную сумму, как пять шиллингов. – Однако, заметив по выражению лица мистера Пекснифа, что тот отнюдь не разделяет этой уверенности, мистер Тигг опять приставил палец к носу, специально и единственно для этого почтенного джентльмена, как бы приглашая его обратить внимание на то, что потребность в небольших займах есть еще одна из особенностей гения, присущих его другу Слайму, к которой он, Тигг, откосится снисходительно, ибо такие слабости представляют значительный метафизический интерес; что же касается его личного ходатайства насчет небольшого аванса, то он только соображался с желаниями своего друга, нисколько не считаясь со своими собственными нуждами или выгодами.
– О Чив, Чив! – прибавил мистер Тигг по окончании этой пантомимы, взирая на своего названого брата с выражением глубокой задумчивости. – Клянусь жизнью, вы являете собою удивительный пример могучего духа, подверженного мелким слабостям. Если бы не было на свете телескопа, я из своих наблюдений над вами мог бы убедиться, что на солнце есть пятна! Странный это мир, клянусь богом, и мы обречены в нем на жалкое прозябание, неизвестно для чего и почему, мистер Пексниф! Ну, да что там! Как ни рассуждай, а мир не переделаешь! Вспомните слова Гамлета: сколько бы Геркулес ни размахивал палицей во всех направлениях, разве он в силах помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах или собакам погибать от пули[16 - …сколько бы Геркулес ни размахивал палицей во всех направлениях, разве он в силах помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах или собакам погибать от пули… – вольная передача сентенции Гамлета из 1-й сцены V акта трагедии
Страница 25
Шекспира «Гамлет»:Хотя бы Геркулес весь мир разнес,А кот мяучит, и гуляет пес.(Перевод М. Лозинского.)], когда они в знойную погоду бегают по улице без намордника? Жизнь есть загадка, и разгадать ее дьявольски трудно, мистер Пексниф. Мое мнение таково, что разгадки вовсе нет, как в знаменитой головоломке: «Почему человек в тюрьме похож на человека вне тюрьмы?» Клянусь душой и телом, все это в высшей степени странно, а впрочем, что толку разговаривать. Ха-ха!Сделав такой утешительный вывод из своих мрачных раздумий, мистер Тигг воспрянул духом и продолжал с прежней живостью:
– Вот что я вам скажу. Я по характеру человек мягкосердечный, можно сказать – даже слишком, и не могу стоять и смотреть, как вы друг другу собираетесь перегрызть горло, когда этим все равно ничего не выгадаешь. Мистер Пексниф, вы кузен нашего уважаемого завещателя, а мы его племянники, то есть я хочу сказать: Чив его племянник. Если разобраться по существу, то, может, вы более близкая родня, чем мы. Очень хорошо, не возражаю. Но вас к нему не допустят, и нас тоже. Даю вам самое что ни на есть честное слово, сэр, я смотрю в эту замочную скважину с девяти утра, с небольшими перерывами для отдыха, дожидаясь ответа на самую умеренную и благородную просьбу о небольшом временном пособии, какую только можно себе представить, – всего пятнадцать фунтов, сэр, и под мое поручительство. И все это время, сэр, он сидит взаперти с совершенно посторонней особой и оказывает ей неограниченное доверие. Так вот, я и утверждаю категорически, говоря о создавшемся положении, что это не годится, это не пройдет, этого терпеть нельзя, и совершенно невозможно позволить, чтобы это продолжалось.
– Каждый человек, – отвечал мистер Пексниф, – имеет право, несомненное право (которого я, например, ни за что на свете не берусь оспаривать) руководиться в своих поступках собственными симпатиями и антипатиями, – если, разумеется, в них нет ничего противного нравственности и религии. Возможно, я и сам чувствую, что мистер Чезлвит не относится ко мне, например, – предположим, что ко мне, – с той христианской любовью, какую нам следовало бы питать друг к другу; возможно, что я огорчен этим обстоятельством и скорблю о нем; однако я остерегусь сделать из этого вывод, будто холодность мистера Чезлвита к своим близким вообще лишена всяких оснований. Боже сохрани! Кроме того, мистер Тигг, – продолжал Пексниф еще более веско и внушительно, – как же можно воспрепятствовать мистеру Чезлвиту оказывать кое-кому то весьма странное и удиви тельное доверие, о котором вы говорите и существование которого я не могу отрицать, а могу только оплакивать в интересах самого мистера Чезлвита? Подумайте. любезный сэр, – заключил мистер Пексниф, взирая на него с грустью, – как же можно говорить так опрометчиво?
– Я с вами согласен, – отвечал Тигг, – вопрос действительно трудный.
– Без сомнения, трудный вопрос, – отвечал мистер Пексниф. Произнося эти слова, он несколько отодвинулся в сторону, как будто вспомнив вдруг о моральной пропасти, лежащей между ним и человеком, к которому он адресовался. – Без сомнения, трудный вопрос. И я отнюдь не уверен, что это такой вопрос, который имеет право обсуждать каждый. Всего хорошего!
– Вам, я думаю, неизвестно, что супруги Спотлтоу уже здесь? – сказал мистер Тигг.
– Что вы говорите, сэр? Какие Спотлтоу? – спросил мистер Пексниф, круто останавливаясь на полдороге к дверям.
– Мистер и миссис Спотлтоу, – возвестил эсквайр Чиви Слайм, в первый раз за все время заговорив громким голосом и очень недовольным тоном и переступая при этом с ноги на ногу. – Ведь Спотлтоу женился на моей двоюродной сестре, так? А миссис Спотлтоу – родная племянница Чезлвита, так? Была когда-то его любимицей. И вы еще спрашиваете, какие Спотлтоу.
– Нет, клянусь всем святым! – воскликнул мистер Пексниф, возводя глаза к небу. – Это ужасно! Корыстолюбие этих людей просто отвратительно!
– И не один только Спотлтоу, Тигг, – продолжал Слайм. глядя на мистера Тигга, но обращая свою речь к мистеру Пекснифу. – Энтони Чезлвит с сыном тоже что-то пронюхали и явились сюда нынче после обеда. Я видел их только что, когда стоял за дверью, и пяти минут не прошло.
– О маммона, маммона! – возопил мистер Пексниф, ударяя себя по лбу.
– Стало быть, – продолжал Слайм, не обращая внимания на то, что его перебили, – и брат, и еще один племянник тоже здесь, к вашему сведению.
– Вот в этом-то и все дело, сэр, – сказал мистер Тигг, – в этом-то и существо вопроса, к которому я собирался приступить, когда мой друг Слайм в двух словах изложил всю суть. Мистер Пексниф, уж если ваш кузен (а наш дядюшка) появился так кстати, то надо принять какие-то меры, чтобы он опять не скрылся; и по возможности бороться с тем влиянием, которое на него оказывает эта самая интриганка и фаворитка. Все заинтересованные лица чувствуют это, сэр. Все родственники валом валят сюда, сэр. Настало такое время, когда всякая зависть, все личные интересы должны быть забыты, сэр, когда надо объединить наши силы
Страница 26
ротив общего неприятеля. Вот разобьем неприятеля, тогда каждый и будет стоять сам за себя; каждая леди и каждый джентльмен, участвующие в игре, начнут запускать шары в ворота завещателя уже за свой собственный страх и риск, и никому в итоге это не принесет убытка. Подумайте хорошенько. Сейчас вы можете себя ничем не связывать. Нас вы застанете в «Семи Звездах и Полумесяце» во всякое время, мы всегда готовы принять любое подходящее предложение. Гм! Чив, дорогой мой, не сходите ли вы взглянуть, какая на дворе погода?Мистер Слайм исчез, не теряя времени, и, как надо полагать, отправился пребывать в ожидании. Мистер Тигг, расставив ноги настолько широко, насколько это допускает самый сангвинический темперамент, кивнул мистеру Пекснифу и улыбнулся ему.
– Мы не должны, – сказал он, – относиться слишком строго к маленьким странностям нашего друга Слайма. Вы видели, как он шептал мне на ухо? Мистер Пексниф это видел.
– Вы слышали мой ответ, я думаю? Мистер Пексниф слышал.
– Пять шиллингов, а? – проникновенно заметил мистер Тигг. – Ах, какой это необыкновенный человек! И какая скромность!
Мистер Пексниф промолчал.
– Пять шиллингов! – в раздумье продолжал мистер Тигг. – И с уплатой ровно через неделю, вот что всего приятней. Вы это слышали?
Мистер Пексниф этого не слыхал.
– Нет? Вы меня удивляете! – воскликнул Тигг. – Ведь это же и есть самое замечательное. Я не знаю случая, чтобы этот человек не сдержал своего слова. Вам, может быть, надо разменять деньги?
– Нет, – сказал мистер Пексниф, – благодарю вас. Не беспокойтесь.
– Ах, вот как, – возразил мистер Тигг. – А то, если нужно, я вам разменяю, – и он принялся что-то насвистывать; но не прошло и десяти секунд, как вдруг оборвал свист и, озабоченно взглянув на мистера Пекснифа, сказал:
– А может быть, вы не желаете одолжить Слайму пять шиллингов?
– Да, это не совсем желательно, – отвечал мистер Пексниф.
– Черт возьми! – воскликнул Тигг, решительно кивнув, как будто ему только сию минуту пришло в голову, что на это могут и не согласиться. – Очень возможно, что вы правы. Может быть, вы и мне не согласитесь одолжить пять шиллингов?
– Да, действительно, этого я тоже не могу, – сказал мистер Пексниф.
– Даже, может быть, и полукроны?
– Даже и полукроны.
– Ну, тогда мы дойдем, – продолжал мистер Тигг, – до смехотворно маленькой суммы, до полутора шиллингов. Ха-ха!
– И это тоже будет в равной мере нежелательно, – отвечал мистер Пексниф.
Выслушав этот ответ, мистер Тигг с чувством пожал мистеру Пекснифу обе руки, уверяя его весьма настойчиво, что он один из самых последовательных и замечательных людей, с какими ему, мистеру Тиггу, приходилось встречаться. Кроме того, он пояснил, что в характере его друга Слайма много таких черточек, которых он, как человек чести и строгих правил, отнюдь не одобряет, – но что он готов простить ему все эти мелкие недостатки, и даже гораздо больше, за то наслаждение, которое доставила ему сегодняшняя беседа с мистером Пекснифом; наслаждение неизмеримо более высокое и полноценное, чем то, какое мог бы принести успех переговоров о небольшом займе в пользу его друга Слайма. А теперь, когда он все это высказал, он позволит себе почтительно пожелать мистеру Пекснифу доброго вечера, Закончил мистер Тигг. И с этими словами он ретировался, нимало не смущаясь своей неудачей, так что всякий мог бы позавидовать его самообладанию.
В тот вечер размышления мистера Пекснифа в общей зале «Дракона», а несколько позже и у себя дома, были весьма серьезного и важного характера, тем более что сведения насчет прибытия остальных родственников, полученные им от гг. Тигга и Слайма, подтвердились полностью по наведении справок. Ибо супруги Спотлтоу действительно прибыли прямо в «Дракон», где расположились на постой и немедленно выставили караул и где их появление произвело такую сенсацию, что миссис Льюпин, которая проникла в их намерения, не успели они и получаса пробыть у нее в доме, лично отправилась с докладом прямо к мистеру Пекснифу, по возможности стараясь сохранить тайну; правда, эта излишняя предосторожность и заставила ее упустить мистера Пекснифа, который входил в «Дракон» с улицы как раз в то время, когда миссис Льюпин выходила со двора. Кроме того, прибыл мистер Энтони Чезлвит со своим сыном Джонасом и устроился весьма экономно в «Семи Звездах и Полумесяце», самой захудалой здешней пивной; а со следующим дилижансом явилось на место действия такое множество любящих родственников (которые во все время пути ссорились друг с другом и внутри кареты и снаружи, доводя кучера до полного умопомрачения), что менее чем через двадцать четыре часа немногочисленные трактирные номера были нарасхват и цена на частные помещения, – а их набралось во всей деревне целых четыре кровати и диван, – поднялась на сто процентов.
Словом, дошло до того, что чуть ли не все семейство Чезлвитов расположилось под стенами «Синего Дракона» и форменным образом обложило его, так что Мартин Чезлвит находился как бы в осаде. Однако
Страница 27
н стойко сопротивлялся, отказываясь принимать какие бы то ни было письма, учтивые предложения и пакеты и упрямо отклоняя всякие переговоры с кем бы то ни было, – словом, не подавал решительно никаких надежд на капитуляцию. Тем временем вооруженные отряды родственников беспрестанно назначали друг другу встречи в разных местах поблизости; но так как никто не запомнит случая, чтобы хоть одна ветвь фамильного древа Чезлвитов была когда-нибудь согласна с другой, то тут пошла в ход такая грызня, закипели такие свары и стычки, и в прямом и в переносном смысле слова, посыпались такие колкости и любезности, началось такое задирание носов и фырканье, такое окончательное погребение всяких добрых чувств и выкапывание всяких старых счетов, какого никогда не знала эта тихая деревушка, с самых первых дней своего цивилизованного существования.Наконец, придя в совершенное отчаяние и потеряв всякую надежду, некоторые из воителей, обращаясь друг к другу, стали пользоваться только самой умеренной бранью, и почти все держались в границах благопристойности, адресуясь к мистеру Пекснифу, из уважения к его незапятнанной репутации и влиятельному положению. Таким образом, упрямство Мартина Чезлвита мало-помалу заставило их найти общий язык и напоследок согласиться – если можно употребить такое слово, говоря о Чезлвитах, – что необходимо созвать генеральный совет и собраться всем в доме мистера Пекснифа такого-то числа ровно в полдень; на каковой совет и были немедленно и торжественно приглашены все члены семейства, оказавшиеся поблизости и доступные зову.
Если у мистера Пекснифа был когда-нибудь апостольский лик, то именно в этот достопамятный день. Если его безмятежная улыбка когда-либо провозглашала без слов:
«Я вестник мира!», то именно так надо было ее понимать теперь. Если когда-либо человек сочетал в себе всю кротость ягненка с немалой долей голубиных свойств, в то же время нисколько не напоминая крокодила и ни капельки не походя на змею, то этот человек был мистер Пексниф. Ах, а обе мисс Пексниф! О, безоблачное выражение лица мисс Черри, как бы говорившее: «Я знаю, что вся моя родня оскорбляла меня так, что о прощении не может быть и речи, но я все-таки прощаю им, потому что это мой долг!» Ах, а простодушная веселость мисс Мерри, такая очаровательная, невинная и младенческая, что если бы она пошла гулять без провожатых и дело было бы пораньше осенью, то малиновка, даже не спросясь, наверное, прикрыла бы ее листьями, приняв ее за невинное дитя, которое забрело в лес, надеясь, в простоте сердечной, набрать там ежевики. Какими словами можно изобразить семейство Пексниф в этот трудный час? Ах, никакими: ибо слова вращаются порой в дурном обществе, а Пекснифы – это сплошная добродетель.
А когда начали собираться гости! Вот это была картина. Когда мистер Пексниф, поднявшись со своего места во главе стола и взяв обеих дочерей под руки, встречал гостей в парадной гостиной и приглашал садиться, глаза его так увлажнились и физиономия так вспотела от избытка чувств, что весь он, можно сказать, размок до совершенной мягкости! А гости! Завистливые, жестокосердые, недоверчивые гости, которые замкнулись в себе, никого не слушали, ничему не желали верить и ни за что не позволили бы этим Пекснифам смягчить и усыпить их подозрительность, словно все они были из породы ежей и дикобразов!
Во-первых, тут был мистер Спотлтоу, до такой степени плешивый и с такими густыми бакенбардами, что казалось, будто ему удалось каким-то чудодейственным средством удержать свои волосы в самый миг выпадения и навсегда прикрепить их к щекам. Тут была миссис Спотлтоу, худощавая не по возрасту и весьма поэтически настроенная дама, имевшая привычку говорить своим близким приятельницам, что эти самые бакенбарды были «путеводной звездой ее жизни»; впрочем, теперь, от сильнейшей любви к дядюшке Чезлвиту и от испытанного ею потрясения, после того как ее заподозрили в посягательстве на дядюшкино наследство, она не могла делать ничего другого, как только плакать или, по меньшей мере, стенать. Тут был и Энтони Чезлвит со своим сыном Джонасом; старик так хитрил и изворачивался всю свою жизнь, что лицо его стало острым, как бритва, и без труда прокладывало ему дорогу в переполненной народом гостиной, когда он протискивался бочком за самыми дальними стульями; а сын так хороню воспользовался наставлениями и примером отца, что выглядел года на три старше его, когда оба они стояли рядом и потихоньку перешептывались, моргая красными глазами. Тут была и вдова покойного брата мистера Мартина Чезлвита, удивительно неприятная женщина с унылой физиономией, костлявой фигурой и мужским голосом, которая в силу всех этих качеств была, что называется, решительной особой: дай ей только волю, она. утвердилась бы в правах на это звание и проявила бы себя в моральном смысле истинным Самсоном[17 - …истинным Самсоном… – Самсон – легендарный библейский герой, наделенный невиданной силой.], засадив своего деверя в сумасшедший дом, пока он не доказал бы, что находится в здравом уме и
Страница 28
вердой памяти, полюбив ее от всей души. Рядом с ней сидели ее незамужние дочери, числом три, весьма церемонные и мужеподобные особы, до того заморившие себя узкими корсетами, что характеры, как и талии, сделались у них совершенно осиные, а тугая шнуровка сказывалась даже на кончиках носов. Тут был и молодой человек, внучатный племянник мистера Мартина Чезлвита, очень смуглый и очень волосатый, по-видимому родившийся на свет только для того, чтобы в зеркале отражалось нечто расплывчатое, Так сказать первый набросок (физиономии, не доведенный до конца. Тут была и незамужняя кузина, не замечательная ничем, кроме того, что была глуховата, жила совсем одна и вечно страдала зубной болью. Тут был и кузен Джордж Чезлвит, веселый холостяк, с претензиями на молодость, которая давно миновала, склонный к тучности и любивший покушать, до такой даже степени, что глаза у него были постоянно выпучены, словно от изумления, и настолько предрасположенный к угрям, что крапинки на шейном платке, горошки на жилете и даже блестящие брелоки, казалось, проступили на нем, как сыпь, а не появились на свет безболезненно, И наконец – тут был мистер Чиви Слайм со своим приятелем Тиггом. Не мешает заметить, что хотя каждый из присутствующих терпеть не мог всех остальных за то, что он или она тоже принадлежали к семейству Чезлвитов, все они дружно ненавидели мистера Тигга только за то, что он был посторонний.Таков был милый семейный кружок, собравшийся в парадной гостиной мистера Пекснифа с приятным намерением отделать на все корки любого, будь то мистер Пексниф или кто другой, если б он вздумал обратиться к ним с речью на ту или другую – неважно, какую именно – тему.
– Это хорошо, – сказал мистер Пексниф, поднимаясь с места и обводя присутствующих взглядом, – я рад. Мои додери тоже рады. Мы благодарим вас за то, что вы собрались сюда. Мы признательны вам от всего сердца. Вы нам оказали большую честь, и поверьте, – невозможно себе представить, как он улыбнулся тут, – мы не скоро об этом забудем.
– Мне очень жаль прерывать вас, Пексниф, – заметил мистер Спотлтоу, весьма грозно топорща бакенбарды, – но вы слишком уж много на себя берете, сэр. Что это вы вообразили, кому это надо оказывать вам честь, сэр?
Все присутствующие отозвались на этот вопрос одобрительным ропотом.
– Если вы собираетесь продолжать в том же духе, как начали, сэр, – с большим жаром продолжал мистер Спотлтоу, сильно стуча по столу костяшками пальцев, – то, чем скорее вы это оставите и наше собрание разойдется, тем будет лучше. Мне небезызвестно ваше возмутительное желание считаться главой семьи, но я вам скажу, сэр…
Ах, вот как! Действительно! Он скажет! Он! Еще чего! Он, что ли, глава семьи! Все, начиная с решительной особы, в ту же минуту набросились на мистера Спотлтоу, который, после тщетной попытки добиться общего молчания и высказаться, был вынужден снова сесть на место; сложив руки на груди и сердито поматывая головой, он мимикой дал понять своей супруге, что этот каналья Пексниф может продолжать свою речь, – он все равно сию минуту опять вмешается в разговор и тогда уж совершенно доконает мерзавца.
– Я ничуть не жалею, – сказал мистер Пексниф, продолжая свою речь, – я, право, ничуть не жалею, что произошел этот маленький инцидент. Полезно чувствовать, что все мы встречаемся здесь без маски. Полезно знать, что мы ничего не скрываем друг от друга, но каждый выступает свободно в своем собственном обличье.
Тут старшая дочь решительной особы, слегка привстав со стула и вся дрожа с головы до ног, скорее от сильного волнения, чем от робости, выразила общую надежду на то, что некоторые люди наконец-то выступят в своем собственном обличье, по крайней мере это была бы для них совершенная новость; но когда им (то есть некоторым людям) вздумается позлословить о родственниках, то пусть хорошенько смотрят, кто тут присутствует, – а иначе до этих самых родственников их слова могут дойти стороной и совсем некстати; что же касается красных носов (заметила она), то еще неизвестно, такой ли это позор иметь красный нос, поскольку люди не сами делают себе носы и не ответственны за выбор их цвета; хотя и на этот счет она еще очень сомневается, – правда ли, будто у одних носы краснее, чем у других; может, у других они еще красней. Так как это заявление сопровождалось визгливым хихиканьем двух сестер говорившей, то мисс Чарити Пексниф осведомилась весьма учтиво, уж не ей ли предназначены все эти вульгарные колкости, и, не получив никакого удовлетворительного ответа, кроме того, который содержится в пословице:
«На воре и шапка горит», немедленно перешла на личности, а сестрица Мерси, вторя ее словам, залилась веселым смехом, гораздо более веселым, чем естественным. И так как совершенно невозможно, чтобы в каких бы то ни было разногласиях между двумя дамами не приняли деятельного участия все остальные дамы, находящиеся налицо, то и решительная особа, и обе ее дочери, и миссис Спотлтоу, и глухая кузина (которой полное незнакомство с сутью дела нисколько не помеш
Страница 29
ло участвовать в диспуте) тут же ввязались в ссору.Поскольку обе мисс Пексниф оказались достойными противницами трех девиц Чезлвит и у всех этих пяти молодых особ, выражаясь современным языком, накопилось очень много паров, то пререкания затянулись бы надолго, если бы не высокая доблесть и отвага решительной особы, которая, по праву пользуясь репутацией сущей язвы, так обработала и измолотила миссис Спотлтоу, осыпав ее колкостями, что не прошло и двух минут с начала состязания, как бедняжка ударилась в слезы. Она проливала их в таком изобилии и так разволновала и разогорчила этим мистера Спотлтоу, что сей джентльмен сначала поднес крепко стиснутый кулак к самому носу мистера Пекснифа, словно от созерцания такого занимательного явления природы тот мог получить какое-нибудь удовольствие или пользу, затем предложил (по мотивам, неизвестным собранию) съездить по физиономии мистера Джорджа Чезлвита за ничтожную мзду в полшиллинга и, наконец, подхватил жену под руку и в негодовании удалился. Эта выходка отвлекла в сторону внимание сражающихся, чем и положила конец ссоре, которая возобновлялась еще несколько раз лишь в виде коротких и постепенно затухающих вспышек и угасла, наконец, при всеобщем молчании.
Именно в эту минуту мистер Пексниф и поднялся во второй раз со стула. Именно в эту минуту обе мисс Пексниф приняли такой вид, как будто бы трех мисс Чезлвит вовсе не было, – не то что здесь в комнате, а вообще на свете, – а три мисс Чезлвит равным образом перестали Замечать существование обеих мисс Пексниф.
– Следует пожалеть, – сказал мистер Пексниф, вспоминая кулак мистера Спотлтоу и мысленно прощая обидчику, – что наш друг так поспешил удалиться, хотя даже и тут мы можем себя поздравить, поскольку это дает нам лишнюю уверенность, что он полагается на нас во всем, что бы мы ни сказали и ни сделали в его отсутствие. А ведь это весьма утешительно, не правда ли?
– Пексниф, – произнес Энтони, который с самого начала так и ел глазами все общество, – не будьте лицемером.
– Чем, уважаемый сэр? – переспросил мистер Пексниф.
– Лицемером.
– Чарити, душа моя, – сказал мистер Пексниф, – не забудь напомнить мне нынче, когда я буду брать свечу на ночь, чтобы я особенно усердно помолился за мистера Энтони Чезлвита, который был несправедлив ко мне.
Эти слова были сказаны самым кротким голосом и в сторону, как будто они предназначались только для ушей его старшей дочери. Затем он продолжал безмятежным топом человека, который черпает бодрость в сознании, что совесть у него чиста:
– Так как все наши мысли сосредоточены на нашем любезном, но недобром родственнике, и так как он, можно сказать, недоступен для нас, то мы собрались сегодня поистине как бы на похороны, с той лишь разницей, к счастью, что в доме нет покойника.
Решительная особа отнюдь не была уверена, что это уж такое счастье. Напротив.
– Не смею спорить, сударыня! – отвечал мистер Пексниф. – Но как бы то ни было, мы все собрались; а собравшись, нам необходимо подумать: возможно ли какими-нибудь дозволительными средствами…
– Ну, вы не хуже моего знаете, – прервала его решительная особа, – что все средства дозволительны в таких случаях, не правда ли?
– Прекрасно, сударыня, прекрасно, – возможно ли какими бы то ни было средствами – я повторяю: какими бы то ни было средствами – открыть глаза нашему высокочтимому родственнику на заблуждение, в котором он находится? Возможно ли ознакомить его какими бы то ни было средствами с истинным характером и целями молодой особы, чьи странные, весьма странные отношения к нему, – тут мистер Пексниф понизил голос до внушительного шепота, – поистине бросают тень позора и стыда на всю нашу семью и которая, как мы знаем, – тут он снова повысил голос, – иначе для чего же она стала его спутницей? – таит в душе самые низкие замыслы, рассчитывая на его слабость и на его имущество.
По этому пункту все родственники, не соглашавшиеся ни в чем другом, выразили единодушное согласие. Боже правый, можно ли допустить, чтобы она покушалась на имущество дядюшки! Решительная особа высказалась за то, чтобы отравить ее; все три дочки за то, чтобы посадить ее в исправительный дом на хлеб и на воду; кузина с зубной болью предлагала каторгу; обе мисс Пексниф советовали розги. И только один мистер Тигг, который, не смущаясь своей крайней обтрепанностью, чувствовал себя здесь в. некотором роде на положении дамского кавалера, вследствие украшения на верхней губе и шнуров на венгерке, усомнился в дозволительности всех этих мер; но и он только подмигнул всем трем девицам Чезлвит с нескрываемым восхищением, в котором проскальзывала чуть заметная ирония, словно говоря:
«Вы что-то уж слишком к ней придираетесь, милые мои барышни! Честное слово, слишком!»
– Так вот, – продолжал мистер Пексниф, скрестив оба указательных пальца особенным манером, одновременно и умиротворяющим и убедительным: – Я не хочу, с одной стороны, заходить слишком далеко, утверждая, будто она заслуживает, чтобы к ней применили все те меры, которые т
Страница 30
т были предложены с такой настойчивостью и игривостью (одна из его витиеватых фраз); с другой стороны, я ни в коем случае не намерен подвергать сомнению наличие у меня обыкновенного здравого смысла, утверждая, будто она их не заслужила. Я хотел бы только заметить, что, по-моему, могут быть приняты некоторые практические меры, для того чтобы заставить нашего уважаемого… позволено ли мне будет сказать – высокочтимого родственника?..– Нет! – зычным голосом прервала его решительная особа.
– В таком случае я этого не скажу, – заключил мистер Пексниф. – Вы совершенно правы, сударыня, – и я весьма ценю и благодарен вам за ваше тонкое возражение, – для того чтобы склонить нашего уважаемого родственника к тому, чтобы он прислушался к голосу природы… а не…
– Ну что же вы, папа! – крикнула Мерси.
– Гм, сказать по правде, душа моя, – произнес мистер Пексниф, посылая улыбку всем собравшимся родичам, – я никак не могу вспомнить это слово. У меня совершенно выскользнуло из памяти, как назывались легендарные животные (языческие, к сожалению), которые пели в воде.
Мистер Джордж Чезлвит подсказал:
– Лебеди.
– Нет, – сказал мистер Пексниф, – не лебеди, хотя что-то очень похожее на лебедей. Благодарю вас.
Племянник с неопределенной физиономией, который открыл рот по этому случаю в первый и последний раз, предположил:
– Не устрицы ли?
– Нет, – отвечал мистер Пексниф со свойственной ему учтивостью. – и не устрицы. Но во всяком случае что-то весьма близкое к устрицам. Прекрасная мысль, благодарю вас, уважаемый сэр, весьма и весьма. Впрочем, погодите! Сирены!.. Боже мой! Разумеется, сирены. Я хочу сказать, что, как мне кажется, можно было бы принять меры к тому, чтобы наш уважаемый родственник внял голосу природы, не поддаваясь на коварные обольщения сирен. Так вот, мы не должны упускать из виду, что у нашего уважаемого друга имеется внук, к которому он был до последнего времени весьма привязан и которого я очень желал бы видеть сегодня здесь, ибо питаю к нему глубокую и искреннюю симпатию. Достойный юноша, весьма достойный юноша! И вот, судите сами, не представляется ли здесь удобный случай устранить недоверие мистера Чезлвита по отношению к нам и доказать свое бескорыстие?..
– Если мистер Джордж Чезлвит собирается что-то сказать мне, – сурово прервала его решительная особа, – то пусть и скажет по-человечески, а не смотрит на меня и на моих дочерей так, будто съесть нас хочет.
– Ну, насчет того, чтобы смотреть, миссис Нэд, – сердито возразил мистер Джордж. – то я слыхивал, будто даже кошке не возбраняется глядеть на короля; поэтому я надеюсь, что имею некоторое право, будучи от рождения членом этой семьи, глядеть на особу, которая породнилась с нами только в браке. А насчет того, чтобы нас съесть, то смею вас уверить, как бы вы ни были ослеплены завистью и несбывшимися надеждами, что я не людоед, сударыня!
– Ну, это еще неизвестно! – отвечала решительная особа.
– Но, если б даже я был людоедом, – сказал мистер Джордж Чезлвит, еще пуще распалясь от этого замечания, – то, наверно, сообразил бы, что дама, которая пережила трех мужей и так легко перенесла их утрату, должна отличаться необыкновенной жесткостью.
Решительная особа немедленно поднялась с места.
– А еще я прибавлю, – продолжал мистер Джордж, Энергично кивая головой на каждом втором слоге, – не называя имен и, значит, не обижая никого, кроме тех, у кого совесть нечиста, что было бы гораздо приличнее и благопристойнее, если бы известные особы, которые всякими правдами и неправдами втерлись в нашу семью и которые еще до свадьбы кругом обошли некоторых ее членов, сыграв на их слабых струнах, а потом свели их в могилу тем, что пилили и пилили без конца, так что они даже рады были умереть, – чтобы эти особы остереглись разыгрывать коршунов по отношению к другим членам семьи, которые пока еще живы. По-моему, было бы во всех отношениях лучше, если бы эти особы сидели дома, довольствуясь тем, что у них уже имеется (на их счастье), вместо того чтобы пристраиваться к чужому семейному пирогу, запах которого они чуют, находясь даже за пятьдесят миль.
– Так я и знала! – воскликнула решительная особа; обведя всех взглядом и презрительно улыбнувшись, она направилась к дверям в сопровождении всех трех дочерей. – Да, так я и знала и с первой же минуты была совершенно к этому готова. Чего же еще можно было ожидать в такой обстановке!
– Пожалуйста, сударыня, не глядите на меня взглядом офицера на половинном жалованье, – вмешалась мисс Чарити, – я этого не потерплю.
Это был язвительный намек на пенсию, которую получала решительная особа во время своего второго вдовства, до вступления в третий брак. Намек не в бровь, а в глаз.
– Я утратила всякие права на благодарность нации, когда вошла в вашу семью, дерзкая вы девчонка, – отвечала миссис Нэд. – Вот теперь я действительно понимаю, чего тогда не понимала: что так мне и надо и что, унизившись до такой степени, я потеряла все права на Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии.
Страница 31
у, мои милые, если вы совсем готовы и достаточно наслушались этих двух воспитанных барышень, я думаю, нам пора домой. Мистер Пексниф, вот уж действительно одолжили, право! Мы думали здесь немножко развлечься, но вы превзошли наши самые смелые ожидания, до того вы всех насмешили. Благодарю вас. Всего хорошего!Этими прощальными словами решительная особа заставила все семейство Пексниф замолчать, после чего она торжественно выплыла из гостиной, а затем и из дома, в сопровождении дочерей, которые все как одна вздернули носы и презрительно захихикали. Проходя по улице мимо окон гостиной, они все три в совершенстве изобразили беспредельный восторг и, нанеся этот последний удар, довершивший поражение всех в доме, окончательно скрылись из виду.
Но прежде чем мистер Пексниф или кто-либо из оставшихся гостей успел сказать хоть слово, мимо окон мелькнула еще одна фигура, бежавшая с большой поспешностью в противоположном направлении; и немедленно вслед за этим в гостиную ворвался мистер Спотлтоу. Сравнительно с его теперешним разгоряченным состоянием, он уходил отсюда сущей ледяной статуей или снежным болваном. Его лысина источала столько елея на бакенбарды, что они были сплошь умащены и даже слиплись; все лицо горело огнем, руки и ноги дрожали; он пыхтел и задыхался.
– Уважаемый сэр! – воскликнул мистер Пексниф.
– О да! – возразил тот. – О да, конечно! Уф-ф, разумеется! Уф-ф, вот именно! Вы слышали его? Вы слышали его? Вы слышали?
– Что случилось? – отозвалось несколько голосов.
– Уф-ф, ничего! – воскликнул Спотлтоу, с трудом переводя дыхание. – Ничего решительно! Ровно ничего! Спросите вот его! Он вам скажет!
– Я не понимаю нашего друга, – сказал мистер Пексниф, оглядываясь по сторонам в совершенном изумлении. – Уверяю вас, его слова для меня решительно непостижимы.
– Непостижимы, сэр! – воскликнул тот. – Недостижимы! Уж не хотите ли вы сказать, сэр, что вам ничего не известно? Что не вы заманили нас сюда и не вы составили заговор против нас? Неужели вы посмеете сказать, будто не знали, что мистер Чезлвит уезжает, сэр? Будто вы не знаете, что он уже уехал, сэр?
– Уехал! – раздался общий крик.
– Уехал! – отозвался мистер Спотлтоу. – Уехал, пока мы тут сидели. Уехал! И никто не знает, куда он уехал. Уф-ф, конечно нет! И никто не знал, что он уезжает. Уф-ф, разумеется нет! Хозяйка до последней минуты думала, будто они просто поехали прокатиться, она так-таки ничего не подозревала. Уф-ф, вот именно нет! Она ведь не раба вот этого, как его! Уф-ф, разумеется нет!
Присоединив к этим возгласам нечто вроде иронического мычания и еще раз обведя взором притихших гостей, раздраженный джентльмен снова умчался с той же невероятной прытью, и больше его не видели.
Напрасно мистер Пексниф уверял своих родственников, что это неожиданное и несвоевременное бегство было для него таким же ударом и сюрпризом, как и для прочих членов семейства. Из всех нападок и обвинений, когда-либо достававшихся на долю ни в чем не повинного человека, ни одно не могло сравниться по силе и убежденности с теми, какие пришлось выслушать мистеру Пекснифу от каждого из родственников при расставании.
Мистер Тигг в роли оскорбленной добродетели являл собой поистине потрясающее зрелище, а глухая кузина, раздражение которой усугублялось тем, что хоть она и видела все происходящее, но понимала только, что разразилась катастрофа, соскребла с башмаков грязь о скребок, а потом наследила по всему крыльцу – в знак того, что отрясает прах от своих ног, перед тем как покинуть эту обитель лицемерия и коварства.
Короче говоря, мистеру Пекснифу оставалось утешаться только одним: а именно мыслью, что все эти родственники и друзья и раньше ненавидели его точно так же и что он, со своей стороны, подарил им не больше любви, чем мог отдать, не жалея, из того обширного запаса, которым располагал по этой части. Такой взгляд на собственные дела доставил ему большое утешение; и это обстоятельство не мешает здесь отметить, поскольку оно показывает, как легко утешиться добродетельному человеку, даже потерпев неудачу и разочарование.
Глава V,
содержащая полный отчет о водворении нового ученика в доме семейства Пенсии ф. С описанием всех, торжеств, состоявшихся по этому случаю, и великой радости мистера Пинча
Лучший из архитекторов и землемеров держал лошадь, в которой его враги, уже не раз упоминавшиеся на этих страницах, усматривали фантастическое сходство с хозяином. Не по внешности, ибо это была костлявая, заезженная кляча, получавшая гораздо меньше корма, чем мистер Пексниф, – но по нравственным качествам; ибо, как говорили, она много обещала и ровно ничего не делала. Она, так сказать, все собиралась пуститься вскачь, и никак не могла собраться. Бывало, еле-еле тащась по дороге, она вдруг начинала так высоко вскидывать ногами и проявлять такую дьявольскую прыть, что прямо не верилось, как это она делает меньше четырнадцати миль в час; и этой иллюзии было тем труднее противиться, что сама кляча вполне удовлетворялась собстве
Страница 32
ной скоростью, и даже очная ставка с самыми ретивыми скакунами ее не смущала. Это была такого рода скотина, которая внушала живейшую надежду людям, мало с ней знакомым, и приводила в отчаяние всех, кто ее хорошо знал. В каком отношении, при означенных чертах характера, она могла бы, по справедливости, уподобиться своему хозяину, было ведомо одним только клеветникам этого добродетельного человека. Однако в том и заключается горькая истина, а также печальный пример людского недоброжелательства, что клеветники все же сравнивали лошадь с хозяином.На этой-то лошади и на крытом экипаже, в который ее обычно впрягали, – какое бы название ему ни присвоить, он больше смахивал на пузатую двуколку, – и сосредоточились все помыслы и надежды мистера Пинча в одно ясное, морозное утро, ибо в этом щегольском экипаже он собирался ехать в Солсбери, с тем чтобы встретить там нового ученика и торжественно препроводить его в дом мистера Пекснифа.
Благословенно будь твое простое сердце, Томас Пинч! С какой гордостью ты застегиваешь подбитое ветром пальто, которое у тебя столько лет, по грустному недоразумению, называется «теплым»; как твердо ты веруешь, когда с неизменяющей тебе веселостью заклинаешь конюха Сэма «немножко попридержать лошадь», что это четвероногое сорвется с места и понесется вскачь, если его отпустить! Кто мог бы воздержаться от улыбки – сочувственной, Томас Пинч, а не обидной, – ибо, видит бог, ты и без того достаточно обижен судьбой, – наблюдая, с каким оживлением, радуясь предстоящему празднику, ты ставишь, едва отхлебнув, на кухонный подоконник белую кружку (приготовленную тобой еще с вечера, чтобы не задерживаться с завтраком) и кладешь на сиденье рядом с собой черствую корку, намереваясь съесть ее по дороге, после того как твое радостное волнение немного утихнет! Кто не воскликнул бы, глядя, – как ты выезжаешь из ворот, весь сияя, и с благодарностью и любовью кланяешься ночному колпаку Пекснифа, смутно виднеющемуся в окне его спальни: «Помоги тебе боже, Том, и пошли тебе тихий приют, где бы ты мог поселиться и жить мирно и где никакое горе не коснется тебя!»
Нет лучшей поры для прогулки по свежему воздуху пешком, верхом или в экипаже, чем ясное, морозное утро, когда надежда быстро гонит по жилам горячую кровь и щекочет все тело от головы до пяток! Как весело начинался бодрящий зимний день, который мог бы вогнать в краску томительное лето (особенно, когда оно прошло) и пристыдить весну за то, что она никогда не бывает по-настоящему холодна. Овечьи колокольчики позванивали так бодро в морозном воздухе, словно могли чувствовать на себе его живительное влияние; деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль, – Тому он казался ничуть не хуже бриллиантов. Из деревенских труб струей высоко-высоко поднимался дым, – словно земля, блистая белизной, уже не терпела ничего грязного и стремилась освободиться от темного дыма. Ледяная корка на ручье, еще недавно подернутом рябью, была так прозрачна и тонка, будто живая струя остановилась по собственной воле, – так казалось Тому в его радости, – чтобы полюбоваться чудесным утром. А для того чтобы солнце не нарушило этого очарования слишком быстро, между ним и землей стлался тонкий туман, похожий на тот, что застилает луну летними вечерами, – на взгляд Тома, это был тот же самый туман, – и, казалось, молил солнце сжалиться и не гнать его прочь.
Том Пинч ехал не быстро, зато с таким чувством, будто летит во весь опор, – что было совершенно одно и то же: и все, что он видел по дороге, как бы сговорилось о том, чтобы развеселить его еще больше. Например, как только он завидел издалека шлагбаум – очень еще издалека! – жена сторожа, которая в это время пропускала какую-то подводу, бросилась опрометью обратно в сторожку сказать мужу, что едет мистер Пинч! И в самом деле, когда Том подъехал ближе, из домика гурьбой высыпали дети сторожа, крича тонкими голосами: «Мистер Пинч!» – к великой радости Тома. Сторож, неприветливый, в общем, человек, которого все порядком побаивались, вышел сам, чтобы получить с него дорожный сбор[18 - Дорожный сбор – сбор за право проезда по дорогам – один из пережитков феодализма, сохранявшийся в английском законодательстве до середины XIX века.], и угрюмо пожелал ему доброго утра; и все это вместе взятое, а также вид всего семейства, завтракавшего перед огнем за круглым столиком, придало черствой корке Тома Пинча совсем особенный вкус, как будто ее отрезали от волшебной ковриги.
Но этого еще мало. Не одни только женатые люди и дети здоровались с мистером Пинчем по дороге. Нет, нет. Блестящие глаза и белоснежные шейки тоже подбегали к окнам верхних этажей, заслышав стук его экипажа, и отвечали на его поклон не скупясь, полной мерой. Все они были веселы. Все улыбались. А самые шаловливые даже посылали Тому воздушные поцелуи, когда он оборачивался. Потому что кто же принимал всерьез ми-пера Пинча? Он, бедняжка, и мухи не обидит.
А утро между тем так прояснилось, и все кругом глядело так весело
Страница 33
и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там такое творится», – Том нимало не сомневался, что оно так и сказало, – взошло над землей во всем своем лучезарном величии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь; и когда он рассеялся, горы, холмы и отдаленные пастбища, полные степенных овец и крикливых ворон, развернулись ярко, словно новые, нарочно созданные для этого случая. Стремясь приветствовать их появление, ручей уже не стоял неподвижно, а заторопился дальше, неся эту новость на мельницу, за три мили отсюда.Мистер Пинч трясся по дороге, полный приятных мыслей и в самом радужном настроении, как вдруг увидел на тропинке впереди себя пешехода, который быстрой и легкой походкой шагал в том же направлении что и мистер Пинч, распевая на ходу, пожалуй, чересчур громким, но зато не лишенным музыкальности голосом. Это был малый лет двадцати пяти или шести, в куртке нараспашку, надетой так свободно и небрежно, что длинные концы красного шарфа то развевались по ветру у него за спиной, то перекидывались на грудь, а пучок красных зимних ягод в петлице его бархатной куртки был виден мистеру Пинчу не хуже, чем если бы эта куртка была надета задом наперед. Он пел не умолкая и с таким увлечением, что не слышал стука колес до тех пор, пока двуколка не поравнялась с ним; только тогда он оглянулся, и мистер Пинч увидел его чудаковатое лицо с очень веселыми голубыми глазами.
– Как, это вы, Марк? – останавливаясь, сказал мистер Пинч. – Вот уж не думал увидеть вас здесь! Ну-ну, удивительное дело!
Веселость Марка сразу пошла на убыль, и, дотронувшись до шляпы, он ответил, что направляется в Солсбери.
– Да каким же вы франтом! – сказал мистер Пинч, разглядывая его с большим удовольствием. – Право, не думал, что вы так любите щеголять, Марк!
– Спасибо, мистер Пинч! Это за мною водится, верно. Но я, знаете ли, не виноват. А насчет франтовства, сэр, так вот в этом-то, понимаете, и все дело. – И тут он стал особенно мрачен.
– В чем же? – спросил мистер Пинч.
– В этом-то и вся заковыка. Легко быть веселым и приветливым, когда хорошо одет. Чем же тут хвалиться? Вот если бы я был весь в лохмотьях, да веселый, – тогда это кое-что бы значило, мистер Пинч.
– Так вы для того и пели сейчас, чтобы не расстраиваться из-за хорошей одежды, да, Марк? – спросил Пинч.
– Вы всегда скажете, сударь, будто в книжку поглядели, – весело ухмыльнулся Марк. – Как раз угадали.
– Ну, Марк! – воскликнул мистер Пинч. – Такого чудака, как вы, я, право, первый раз в жизни вижу. Мне всегда так казалось, а теперь я окончательно убедился. Я тоже еду в Солсбери. Хотите, подвезу. Буду очень рад вашему обществу.
Молодой человек поблагодарил его и тут же принял предложение; садясь в экипаж, он пристроился на самом краешке сиденья, совсем на весу, давая этим понять, что он тут только по любезности мистера Пинча. Дорогой они продолжали разговаривать.
– А я, видя вас таким франтом, – сказал мистер Пинч, – чуть было не решил, что вы собираетесь жениться, Марк.
– Да что ж, сэр, я и сам об этом думал, – отвечал Марк. – Пожалуй, не так-то легко быть веселым, когда есть жена, да еще дети хворают корью, а она к тому же сварливая баба. Только боюсь и пробовать. Не знаю, что из этого получится.
– Может быть, вам никто особенно не нравится? – спросил Пинч.
– Особенно, пожалуй, что и нет, сударь.
– А знаете ли, Марк, с вашими взглядами вам именно следовало бы жениться на такой особе, чтобы не нравилась и была неприятного характера.
– Оно и следовало бы, сэр, только это уж значит хватить через край. Верно?
– Пожалуй, что верно, – сказал мистер Пинч. И оба они весело рассмеялись.
– Господь с вами, сэр, – сказал Марк. – Плохо же вы меня знаете, как я погляжу. Не думаю, чтобы нашелся, кроме меня, человек, который при случае мог бы показать, чего он стоит, в таких условиях, когда всякий другой был бы просто несчастен. Только вот случая нет. Я так думаю, никто даже и не узнает, на что я способен, разве только подвернется что-нибудь из ряда вон выходящее. А ничего такого не предвидится. Я ухожу из «Дракона», сэр!
– Уходите из «Дракона»! – воскликнул мистер Пинч, глядя на него в величайшем изумлении. – Да что вы, Марк! Я просто опомниться не могу, так вы меня удивили!
– Да, сэр, – отвечал Марк, смотря прямо перед собой куда-то вдаль, как смотрят иной раз, глубоко задумавшись. – Что толку оставаться в «Драконе»? Для меня там вовсе не место. Когда я приехал из Лондона (я ведь родом из Кента) и поступил на эту должность, я думал, что в таком глухом углу скучища должна быть зверская, что другой такой дыры нигде в Англии не сыскать, а значит, и быть веселым здесь не очень легко; есть чем похвалиться. А какая же в «Драконе» скука, где там! Кегли, крикет, лапта, городки, хоровое пение, комические куплеты; зимой каждый божий вечер собирается у очага целая компания, – кто угодно будет веселым в «Драконе». Чем тут особенно хвалиться!
– Однако, если верить молве, Мар
Страница 34
, – а я думаю, на этот раз ей можно верить, потому что и сам видел кое-что, – сказал мистер Пинч, – без вас там не было бы такого веселья; вы первый всему зачинщик и коновод.– Может, это и так, сэр, – ответил Марк. – Только это все же не утешение.
– Да!.. – сказал мистер Пинч после короткого молчания, и его обыкновенно тихий голос прозвучал еще тише. – У меня все не идет из головы то, что вы сказали. Как же так? Что же теперь будет с миссис Льюпин?
Марк, глядя куда-то еще дальше и еще сосредоточеннее, ответил, что для нее, надо думать, это большой разницы не составит. Найдется сколько угодно бойких молодых парней, которые только рады будут занять его место. Он и сам знает таких не меньше десятка.
– Вполне возможно, – сказал мистер Пинч, – но я отнюдь не уверен, что миссис Льюпин им будет рада. А ведь я всегда думал, что вы с миссис Льюпин поженитесь, Марк, да и все так думали, насколько мне известно.
– Я ей ничего такого не говорил, – отвечал Марк, несколько смутившись, – что прямо походило бы на объяснение, и от нее ничего такого не слышал, да ведь как знать, мало ли что мне взбредет в голову на досуге, да и она мало ли что может ответить. Нет, сэр. Это мне не подойдет.
– Не подойдет быть хозяином «Дракона», Марк? – воскликнул мистер Пинч.
– Нет, сэр, ни в коем случае не подойдет, – возразил Марк, отводя взгляд от горизонта и обращая его на своего спутника. – Это сущая погибель для такого человека, как я. Да я там преспокойно просижу всю жизнь, и никто никогда не узнает, на что я гожусь. Что тут особенного, если хозяин в «Драконе» веселый? Он не может не быть веселым, сколько ни старайся.
– А миссис Льюпин знает, что вы намерены ее покинуть? – осведомился мистер Пинч.
– Я еще ей не говорил, сэр, а сказать придется. Нынче утром я собираюсь поискать что-нибудь другое, более подходящее, – сказал он, кивая в сторону Солсбери.
– Что же именно? – спросил мистер Пинч.
– Я подумывал, – отвечал Марк, – насчет какой-нибудь должности вроде могильщика.
– Господь с вами, Марк! – воскликнул мистер Пинч.
– Отличная должность, сударь, в смысле сырости и червей, – сказал Марк, убежденно кивая головой, – и быть веселым при таком занятии – дело нелегкое; одно только меня пугает, что могильщики, как на грех, ребята веселые. Не знаете ли вы, сэр, отчего это так бывает?
– Нет, – сказал мистер Пинч, – право, не знаю. Никогда над этим не задумывался.
– На случай, ежели с этим ничего не выйдет, – продолжал Марк размышлять вслух, – имеются, знаете ли, и другие занятия. Гробовщика хотя бы. Невеселая штука. Тогда еще было бы чем похвалиться. Служить у закладчика в бедном квартале, пожалуй, тоже недурно. Тюремщик видит немало горя. Лакей у доктора тоже – у него на глазах постоянно людей морят. У судебного пристава тоже не очень-то веселая должность. Даже и сборщику налогов бывает тошно глядеть на чужое горе. Да мало ли еще что может подвернуться подходящее, думается мне.
Мистер Пинч был до того огорошен этими соображениями, что у него пропала всякая охота разговаривать, и он только время от времени ронял слово или два о чем-нибудь маловажном, искоса поглядывая на жизнерадостное лицо своего чудака приятеля, по-видимому совершенно не замечавшего, что за ним наблюдают. Так продолжалось, пока они не доехали до поворота дороги, почти на окраине города; здесь Марк сказал, что хотел бы сойти, с позволения мистера Пинча.
– Господи помилуй, Марк, – сказал мистер Пинч, который во время своих наблюдений успел сделать открытие, что куртка у его спутника распахнута, словно среди лета, и под рубашку то и дело забирается ветер, – почему вы не носите жилета?
– А какая от него польза, сэр? – спросил Марк.
– Какая польза? – сказал мистер Пинч. – Такая, что грудь в тепле.
– Господь с вами, сэр, – воскликнул Марк, – не знаете вы меня, вот что! Зачем это мне нужно держать грудь в тепле? А если даже нужно, так что со мной может случиться без жилета? Ну, схвачу воспаление легких. Что ж, тем больше мне чести, ежели при воспалении легких я буду веселый.
Так как мистер Пинч не мог найти на это подходящего ответа и только тяжело вздыхал, округлив глаза и усиленно кивая головой, Марк поблагодарил за одолжение и соскочил на ходу, чтобы не затруднять мистера Пинча остановкой. И легко, словно танцуя, он зашагал по тропе, в куртке нараспашку, в развевающемся красном шарфе, изредка оборачиваясь, чтобы кивнуть мистеру Пинчу, – самый беззаботный, добродушный и чудаковатый малый из всех, какие водятся на свете. Его недавний спутник, сильно призадумавшись, продолжал свой путь в Солсбери.
Мистер Пинч подозревал в душе, что Солсбери одно из самых злачных мест во всей Англии, что это разгульный и развращенный город, а потому, поставив лошадь в конюшню и дав конюху понять, что зайдет часика через два взглянуть, вдоволь ли у нее овса, он отправился прогуляться по улицам со смутной и довольно приятной мыслью, что там должно быть полным-полно всяких тайн и соблазнов. Этому маленькому заблуждению способствовало т
Страница 35
обстоятельство, что день был базарный и переулки вокруг площади были сплошь заставлены подводами, лошадьми, ослами, корзинками, тележками, завалены овощами, говядиной, требухой, пирогами, птицей и лотками с товаром всех возможных сортов и видов. Кроме того, тут были молодые крестьяне и старые крестьяне – в блузах, коричневых куртках, серых куртках, красных вязаных шарфах, гамашах, шляпах невиданных фасонов, с арапниками и самодельными дубинками в руках, – которые стояли кучками, или громко разговаривали на трактирном крыльце, или получали и отсчитывали целые пачки засаленных бумажек из таких толстых бумажников, что вытаскивать их из кармана грозило апоплексией, а запихивать обратно – спазмами в желудке. Кроме того, тут были крестьянки в касторовых капорах и красных накидках, правившие лохматыми лошадками, чуждыми всяким земным страстям, которые преспокойно везли своих хозяек куда угодно, не интересуясь, зачем это нужно, и в случае надобности могли бы стоять как вкопанные в посудной давке, с полным обеденным сервизом возле каждого копыта, а также великое множество собак, весьма заинтересованных состоянием рынка и сделками своих хозяев; и великое смешение двух языков – скотского и человеческого.Мистер Пинч глядел на все выставленное для продажи с большим удовольствием, особенно же на лоток бродячего ножовщика, настолько его прельстивший, что им тут же был приобретен карманный ножичек с семью лезвиями, из которых ни одно не резало, как мистер Пинч обнаружил впоследствии. Осмотрев базарную площадь и удостоверившись, что фермеры сели обедать, он вернулся приглядеть за своей лошадью. Убедившись, что она наелась до отвала, Том опять вышел побродить по городу и полюбоваться окнами лавок; сначала он нагляделся досыта на банк и погадал, где именно под землей находятся те подвалы, в которых хранят золотую монету; потом обернулся и посмотрел вслед двум-трем повстречавшимся ему молодым людям, которые, как ему было известно, находились в обучении у городских нотариусов и внушали ему известное уважение, смешанное со страхом, так как вели весьма рассеянный образ жизни и были, что называется, развеселые ребята.
А самые лавки! Прежде всего тут были ювелирные лавки со всеми сокровищами мира, выставленными в окне; и такие большие серебряные часы висели там за каждым окном, что если ход у них и был неважный, то уж, конечно, не оттого, что для механизма не хватило места. По правде сказать, они казались достаточно велики и достаточно безобразны, для того чтобы быть самыми образцовыми механизмами на свете. На взгляд мистера Пинча, однако, они были миниатюрнее швейцарских часов; а когда он увидел, что одни часы луковицей рекомендуются как часы с репетицией, наделенные редкой способностью вызванивать каждую четверть часа в кармане их счастливого обладателя, ему даже захотелось быть настолько богатым, чтобы купить их.
Но что были золото и серебро, драгоценности и хронометры по сравнению с книжными лавками, откуда шел приятный запах свежей печатной бумаги, мгновенно будя воспоминание о какой-нибудь новой грамматике, по которой он когда-то, давным-давно, учился в школе, – с надписью «Томас Пинч, пансион Гров-Хаус», выведенной отличнейшим почерком на заглавном листе! А этот легкий запах сафьяна, а все эти ряды томов, аккуратно выстроенные один над другим, – какую радость они сулили! В окне были выставлены, радуя глаз, последние лондонские издания, раскрытые на заглавном листе, а иногда даже и на первой странице первой главы, что подстрекало неосмотрительных людей начать чтение, а потом, из-за невозможности перевернуть страницу, ринуться внутрь и купить книжку! Тут были изящные фронтисписы и тонкие виньетки, указывающие, подобно придорожным столбам на окраинах больших городов, на богатую событиями жизнь, которая скрывается за ними; и книги с благообразными портретами авторов, имена которых, хорошо известные мистеру Пинчу, были освящены временем, – много он отдал бы за то, чтобы иметь их труды, в каком угодно издании, на узенькой полочке рядом со своей кроватью, в доме мистера Пекснифа. Просто мучение, а не лавка!
Была тут еще и другая лавка – не то, что первая, но все же завидное место, – где продавались детские книги и где бедняга Робинзон стоял одиноко во всем своем величии, с топором и собакой, в шапке из козьей шкуры и с ружьем, и спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей вокруг него[19 - …Робинзон… спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей… – Имеется в виду роман Даниеля Дефо (1660–1731) «Робинзон Крузо» (1719). Это произведение породило несметное количество подражаний, одним из которых является роман, вышедший в 1727 году под названием: «Несравненные страдания и удивительные приключения Филиппа Кворла, англичанина, который был обнаружен бристольским купцом м-ром Доррингтоном на необитаемом острове в Южном море, где он жил около 50 лет без всякого человеческого общества, и откуда не хотел выезжать».], призывая мистера Пинча в свидетели, что только он один из всей этой толпы оставил н
Страница 36
песках мальчишеской памяти свой след, который бессильна стереть поступь новых поколений. Были тут и персидские сказки о летающих сундуках и волшебниках, многие годы корпящих в пещерах над колдовскими книгами; был тут и купец Абдалла, и страшная старуха, выскочившая из сундука в его спальне; и могучий талисман – несравненные сказки «Тысячи и одной ночи», с Касим-бабой, разделенным на четыре части и подвешенным к потолку разбойничьей пещеры, словно призрак головоломной арифметической задачи. Все эти бесценные сокровища, мгновенно завладев мистером Пинчем, так оттерли и отчистили волшебную лампу в его душе, что, когда он опять повернулся лицом к шумной улице, к его услугам был уже целый хоровод видений, и он снова радостно переживал счастливые дни допекснифовских времен.Он проявил гораздо меньше интереса к лавкам аптекарей с большими, горящими, как жар, бутылями (весь блеск которых собран в пробках), где медицина не без приятности сочеталась с парфюмерией в изготовлении ароматических леденцов и девичьей кожи. Не выказал он также ни малейшего внимания (что и всегда за ним водилось) к портновским лавкам, где вывешены были новейшие фасоны столичных жилетов, которые, в силу какой-то странной метаморфозы, в лавке всегда выглядели отлично, а на заказчиках делались ни на что не похожи. Зато он остановился у театра прочесть афишу и поглядел на вход с известного рода трепетом, который отнюдь не уменьшился, когда из дверей вышел джентльмен с восковым лицом и длинными волосами и велел какому-то мальчишке сбегать к нему на квартиру за палашом. Услышав это, мистер Пинч замер в восхищении и простоял бы так до темноты, если бы колокол старинного собора не зазвонил к вечерне, после чего мистеру Пинчу удалось сдвинуться с места.
Помощник органиста дружил с Томасом Пипчем – и очень кстати, ибо он тоже был смирный малый и в школе тоже вел себя, как мальчик из хрестоматии, хотя даже озорники его любили. К счастью, случилось так (Том всегда говорил, что ему везет), что помощник органиста в этот день работал один и на пыльных хорах с ним не было никого, кроме Тома; так что Том помогал ему переводить регистр, пока он играл, а потом, когда служба кончилась, и сам уселся за орган. Вечерело, и к желтому свету, струившемуся сквозь старинные окна на хорах, примешивался зловещий тускло-красный оттенок. Когда величавые аккорды огласили церковь, мистеру Пинчу почудилось, будто на них отзывается эхом каждая из древних гробниц, так же как и сокровенная глубина его собственного сердца. Мысли и надежды волной хлынули в его душу, когда стройные звуки музыки сотрясли воздух, и среди них, исполненные нового, важного смысла и значения, но в существе своем те же самые, – были все впечатления этого дня, вплоть до смутных воспоминаний детства. Чувство, которое пробуждали эти звуки в краткий миг своего существования, казалось, обнимало всю его жизнь, всю его душу; и по мере того как окружающая действительность из камня, стекла и дерева расплывалась и пропадала во мраке, эти видения становились все ярче, и Том совсем позабыл бы про нового ученика и ожидающего их обоих наставника и просидел бы так до полуночи, изливая благодарное сердце, если бы не дряхлый грубиян причетник, который непременно желал запереть церковь, не медля ни минуты. И мистер Пинч распрощался со своим приятелем, рассыпавшись в благодарностях, ощупью выбрался из темноты на уже освещенные фонарями улицы и поспешил в гостиницу обедать.
К этому времени все крестьяне разъехались по домам, и никого уже не было в усыпанной песком зале той гостиницы, где мистер Пинч на конюшне оставил свою лошадь; поэтому он попросил придвинуть маленький столик поближе к огню и с аппетитом принялся за отлично поджаренный бифштекс с дымящимся горячим картофелем, радуясь его превосходным качествам и вообще наслаждаясь жизнью вовсю. Рядом с тарелкой стояла кружка бесподобного вильтширского пива; и все это вместе взятое было так чудесно, что мистер Пинч вынужден был время от времени класть нож и вилку на скатерть и потирать руки в глубоком умилении. Когда подали сыр с сельдереем, мистер Пинч вытащил книжку из кармана и доканчивал обед уже не торопясь – то покушает немножко, то выпьет пива, то почитает, то остановится, раздумывая, каким человеком окажется новый ученик. Покончив с этим предметом размышления, он погрузился в книжку, как вдруг дверь отворилась, и вошел посетитель, напустив при этом такого холода, что сначала положительно казалось, будто он совсем загасил огонь в камине.
– Очень сильный мороз нынче, сэр, – сказал новый гость, учтиво выражая признательность мистеру Пинчу, который отодвинулся со своим столиком, уступая место пришельцу. – Не беспокойтесь, пожалуйста, прошу вас.
Проявив этим должное внимание к удобствам мистера Пинча, он тем не менее пододвинул большое кожаное кресло к самому очагу, и уселся прямо перед огнем, поставив ноги на решетку.
– Ноги у меня совсем окоченели. Да, мороз жестокий!
– Вы, должно быть, долго пробыли на холоде? – спросил мистер Пинч.
– Весь ден
Страница 37
. Да еще на козлах кареты.«Оттого-то он и в комнату напустил такого холода, – подумал мистер Пинч. – Бедняга! То-то, должно быть, промерз до костей».
Незнакомец тоже задумался и молча просидел минут пять или десять перед огнем. Наконец он встал с места и освободился от шали и пальто, очень теплого и толстого (по сравнению с верхней одеждой мистера Пинча). Однако, сняв пальто, он ничуть не стал разговорчивее, ибо снова уселся на то же место и в той же позе и, откинувшись на спинку стула, принялся грызть ногти. Он был молод – лет двадцати, быть может, – и красив, с быстрыми умными глазами и живостью взгляда и движений, которая заставила Тома еще сильнее почувствовать собственную мешковатость и сделаться еще застенчивее обыкновенного.
В комнате были часы, на которые незнакомец то и дело поглядывал. Том тоже нередко с ними справлялся, отчасти из сочувствия к своему молчаливому товарищу, отчасти же потому, что новый ученик должен был зайти за ним в половине седьмого, а стрелки уже подвигались к этому часу. Всякий раз как незнакомец перехватывал его взгляд, устремленный на часы. Томом овладевало какое-то замешательство, точно его поймали врасплох на чем-то нехорошем; и молодой человек, быть может заметив его тревогу, сказал с улыбкой:
– Как видно, мы с вами оба очень интересуемся временем. Дело в том, что я должен встретиться тут с одним джентльменом.
– И я тоже, – сказал мистер Пинч.
– В половине седьмого, – сказал незнакомец.
– В половине седьмого, – сказал Том одновременно с ним, на что молодой человек ответил изумленным взглядом.
– Молодой джентльмен, которого я ожидаю, – робко заметил Том, – должен был спросить в половине седьмого человека по фамилии Пинч.
– Боже мой! – воскликнул тот, вскакивая с места. – А я еще все время загораживал от вас огонь! Я понятия не имел, что вы и есть мистер Пинч. Я тот самый мистер Мартин, которого вы ждете. Пожалуйста, извините меня. Придвигайтесь ближе, прошу вас!
– Благодарю, – сказал Том, – благодарю вас. Мне вовсе не холодно, а вы озябли; нам же еще предстоит ехать по морозу. Хотя, что ж, если вам угодно, я придвинусь. Я… я очень рад, – сказал Том с особенной, свойственной ему, открытой и смущенной улыбкой, которая так ясно говорила о том, что он сознает все свои недостатки и просит снисхождения у собеседника, как будто он попросту написал все это на бумаге, – очень рад, что вы и есть тот человек, которого я дожидался. Я только что подумал, минуту тому назад, как хорошо было бы, если бы он был похож на вас.
– Мне приятно это слышать, – отвечал Мартин, опять пожимая ему руку, – уверяю вас, я и сам думал, какое это было бы счастье, если бы мистер Пинч оказался похож на вас.
– Нет, в самом деле? – откликнулся Том, очень довольный. – Вы не шутите?
– Честное слово, нет, – отвечал его новый знакомец. – Мы с вами отлично сойдемся, я уж знаю; и это для меня немалое облегчение. Сказать вам по правде, я вовсе не такой человек, чтобы мог сходиться со всяким, и на этот счет у меня были большие сомнения. Но теперь они рассеялись. Будьте так любезны, позвоните, пожалуйста.
Мистер Пинч вскочил с места и бросился выполнять эту просьбу с величайшей живостью (звонок был над самой головой у Мартина, который продолжал греться), с улыбкой слушая то, что говорил его новый друг.
– Если вы любите пунш, позвольте мне заказать для нас по стакану самого горячего, чтобы как следует ознаменовать начало нашей дружбы. Сказать вам по секрету, мистер Пинч, я никогда еще не нуждался так в чем-нибудь горячительном и подкрепляющем; но, не зная, что вы за человек, я не хотел пить при вас, потому что первое впечатление, видите ли, очень много значит, и сглаживается оно не скоро.
Мистер Пинч позволил, и пунш был заказан. В свое время он появился на столе, горячий и крепкий. Выпив этот дымящийся напиток за здоровье друг друга, они пустились в откровенности.
– Я до некоторой степени родня Пекснифу, знаете ли, – сказал молодой человек.
– Неужели? – воскликнул мистер Пинч.
– Да. Мой дедушка приходится ему двоюродным братом, так что мы с ним какие-то там родственники, если вы в этом можете разобраться. Я не в состоянии.
– Значит, вас зовут Мартином? – в раздумье спросил мистер Пинч. – О!
– Разумеется, Мартином, – отвечал его друг. – А лучше бы «Мартин» была моя фамилия, потому что она у меня не из благозвучных и подписывать ее очень долго. Моя фамилия Чезлвит.
– Боже мой! – воскликнул мистер Пинч, невольно подскочив.
– Неужели вас удивляет, что у меня есть и имя и фамилия? – отозвался Мартин, поднося стакан к губам. – Это не редкость!
– Нет, нет. – сказал мистер Пинч, – ничуть. О боже мой, нисколько! – И припомнив, что мистер Пексниф под большим секретом просил его ничего не говорить о пожилом джентльмене с той же фамилией, остановившемся в «Драконе», напротив, воздержаться от всяких упоминаний о нем. он не нашел другого способа скрыть свое смущение, как тоже поднести стакан ко рту. Некоторое время они глядели друг на друга поверх своих стакан
Страница 38
в и, допив их до дна, поставили на стол.– Я велел там, на конюшне, запрягать к этому времени, – сказал мистер Пинч, опять взглядывая на часы. – Поедемте?
– Если вам угодно, – отвечал тот.
– Может быть, вы хотите править? – спросил мистер Пинч и просиял, сознавая всю заманчивость такого предложения. – А то правьте, если вам хочется.
– Ну, это зависит от того, какая у вас лошадь, – отвечал Мартин, улыбаясь. – Потому что если она плохая, так я лучше засуну руки в карманы, чтобы они не мерзли.
Он, видимо, был очень доволен своей шуткой, и поэтому мистеру Пинчу она тоже весьма понравилась. Он тоже засмеялся и тогда уже совершенно уверился в том, что шутка отличная. После того он уплатил по счету, а мистер Чезлвит заплатил за пунш, и, закутавшись потеплее, каждый как мог, они направились к выходу, где движимость мистера Пекснифа загораживала им дорогу.
– Нет, спасибо, я не буду править, – сказал Мартин, усаживаясь на место седока. – Кстати, тут у меня сундучок. Нельзя ли его как-нибудь пристроить?
– О, разумеется! – сказал Том. – Дик, поставь его куда-нибудь.
Сундук был не таких удобных размеров, чтобы его можно было сунуть иуда угодно, но конюх Дик все же впихнул его кое-как с помощью мистера Чезлвита. Сундук оказался под ногами у мистера Пинча, и мистер Чезлвит выразил опасение, не будет ли это беспокоить мистера Пинча, на что Том ответил: «Нисколько», хотя ему из-за этого приходилось сидеть в весьма неудобной позе, мешавшей ему видеть что-либо, кроме собственных колен. Однако плох тот ветер, который никому не приносит добра; справедливость этой пословицы подтвердилась в ту же минуту, ибо морозный ветер задувал со стороны Тома и сундук вместе с Томом образовал такую плотную стену между ветром и новым учеником, что Мартин был как нельзя лучше защищен от стужи, и это было весьма утешительно.
Вечер был ясный, и ярко светила луна. Все кругом серебрилось от инея и лунного света, и местность казалась необыкновенно красивой. Сначала, под влиянием мира и безмятежной тишины, разлитой в природе, молодые люди молчали; но спустя немного, от пунша и бодрящего воздуха, они сделались необыкновенно разговорчивы и болтали без умолку. Когда путники остановились на полдороге напоить лошадей, Мартин (который не жалел своих денег) заказал еще один стакан пунша, и они выпили его пополам, отчего сделались еще разговорчивее. Главным предметом беседы был, натурально, мистер Пексниф и его семейство; и Том со слезами на глазах говорил о своих благодетелях в таких выражениях, что каждый человек, не лишенный сердца, должен был преклониться перед семейством Пексниф, чего мистер Пексниф, разумеется, не мог предвидеть и о чем решительно не подозревал, иначе он (по свойственной ему скромности) никогда не послал бы мистера Пинча за новым учеником. Так ехали они путем-дорогой, как говорится в сказках, пока, наконец, не замелькали перед ними огоньки селения и длинная тень колокольни не легла на кладбищенскую траву, словно на циферблат часов (увы, самых верных на свете!); покорная движению светил, отмечает она быстротекущие дни, недели и годы вечно меняющейся тенью на этой священной земле.
– Церковь недурна! – сказал Мартин, видя, что его спутник замедлил и без того медленный бег лошади, когда они подъехали ближе.
– Не правда ли? – отозвался Том с большой гордостью. – И орган в ней небольшой, но очень приятного тона. Я на нем играю.
– Вот как! – сказал Мартин. – Сдается мне, что это едва ли стоит труда. И много вы получаете?
– Ничего ровно, – ответил Том.
– Ну, знаете ли, – возразил его друг, – вы, я вижу, большой чудак.
Последовало краткое молчание.
– Когда я сказал «ничего», – заметил мистер Пинч жизнерадостно, – я ошибся и сказал совсем не то, что думал, потому что это доставляет мне огромное удовольствие и возможность провести несколько счастливых часов. А на днях мне выпало на долю и еще кое-что… только вы, я думаю, вряд ли захотите слушать.
– Нет, отчего же. А что это было?
– Я видел, – сказал Том, понизив голос, – самое милое и самое красивое лицо, какое вы только можете себе представить.
– Уж я-то могу представить себе такое лицо, – задумчиво сказал его друг, – если у меня не вовсе отшибло память.
– Она пришла в первый раз, – сказал Том, кладя руку ему на плечо, – очень рано утром, когда еще только светало; и когда я обернулся и увидел, что она стоит в дверях, то весь даже похолодел: мне сначала показалось, что это видение. Через минуту я, конечно, опомнился; и слава богу, что так скоро, – я даже не перестал играть.
– Почему же «слава богу»?
– Почему? Потому что она стояла и слушала. Я был в очках и видел ее из-за занавеса так же ясно, как вижу вас; это была красавица. Немного погодя она исчезла, а я играл, пока она могла слышать.
– Для чего же вы это делали?
– Неужели вы не понимаете? – отвечал Том. – Она могла подумать, что я ее не видал, и прийти еще раз.
– И она пришла?
– Конечно. И на следующее утро и вечером тоже; и все в такое время, когда никого не было,
Страница 39
и всегда одна. Я вставал раньше и сидел в церкви дольше, чтобы двери были отперты, когда она придет, и орган играл, иначе она огорчилась бы. Несколько дней подряд она приходила в церковь и всегда оставалась послушать. Но теперь она уехала; и из самого невероятного на этом свете всего невероятнее, что я еще когда-нибудь увижу ее.– Вы ничего больше о ней не знаете?
– Нет.
– И вы ни разу за ней не пошли?
– Зачем я стал бы ее беспокоить? – сказал Том Пинч. – Разве она нуждалась в моем обществе? Она приходила слушать орган, а не видеться со мной; так ради чего я спугнул бы ее с места, которое так ей полюбилось? Нет, господь ее храни! – воскликнул Том. – Чтобы доставить ей хоть минутную радость, я играл бы на органе каждый день до самой старости; я был бы счастлив, если бы, вспоминая о музыке, она вспоминала заодно и беднягу музыканта, и вознагражден сверх меры, если бы она когда-нибудь подумала и обо мне, вспоминая о том, что ей так мило.
Новый ученик был, видимо, изумлен таким малодушием мистера Пинча и, вероятно, сказал бы ему об этом и, пожалуй, дал бы хороший совет, но в эту минуту они подкатили к дому мистера Пекснифа – к парадным дверям на этот раз, ибо случай был торжественный и радостный. Лошадь принял тот самый конюх, которого мистер Пинч заклинал нынче утром придержать ретивое животное; поручив его заботам это четвероногое и шепотом попросив мистера Чезлвита никогда, ни единым звуком не обмолвиться о том, что было ему доверено в избытке чувств, Томас Пинч повел нового ученика в дом, для безотлагательного представления мистеру Пекснифу.
Мистер Пексниф явно не ожидал их так скоро: он был окружен раскрытыми книгами и, держа во рту карандаш, а в руке компас, заглядывал то в один, то в другой том с великим множеством математических чертежей, таких замысловатых с виду, что их можно было принять за схематическое изображение фейерверка. Мисс Черри тоже не ожидала их и потому, сидя перед объемистой плетеной корзинкой, занималась шитьем каких-то немыслимых ночных колпаков для бедных. Мисс Мерри тоже не ожидала их и, примостившись на своей скамеечке, примеряла – о боже милостивый! – юбку большой кукле, которую она наряжала для соседской девочки; да, это была совсем взрослая барышня-кукла, и оттого мисс Мерри сконфузилась еще больше; а кукольную шляпку она прицепила на ленте к одному из своих белокурых локонов, чтобы эта шляпка не потерялась или кто-нибудь на нее не сел. Было бы весьма затруднительно и даже просто невозможно представить себе семейство, застигнутое врасплох до такой степени, как семейство Пексниф на этот раз.
– Боже мой! – воскликнул мистер Пексниф, поднимая глаза и меняя рассеянное выражение лица на радостно-удивленное. – Уже здесь! Мартин, дорогой мой мальчик, я в восторге, что вижу вас в моем скромном жилище.
С этим любезным приветствием мистер Пексниф принял Мартина в свои объятия и несколько раз похлопал его по спине правой рукой, будто не в силах был выразить своих чувств словами.
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Сноски
1
Убийца и бродяга – намек на библейское предание о Каине, убившем своего брата Авеля и осужденном за это богом на вечные скитания.
2
…пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем. – В 1066 году Вильгельм, герцог Нормандии, во главе нормандских феодалов завоевал Англию; с 1066 по 1087 год – король Англии.
3
…участвовал в Пороховом заговоре… – Пороховой заговор (1605) был организован группой дворян-католиков (Роберт Кетсби, Гай Фокс и др.), замышлявших убийство короля Иакова I Стюарта и его министров. Сигналом к общему выступлению должен был послужить взрыв парламента. Заговорщикам удалось спрятать в подвале под зданием парламента бочки с порохом, но в последний момент планы их были раскрыты, главари схвачены и казнены.
4
…сам архипредатель Фокс. – Речь идет о Гае Фоксе, офицере, которому было поручено поджечь бочки с порохом, заложенные под здание парламента. Был схвачен, подвергнут пыткам и казнен.
5
…пятого ноября, когда был Гаем Фоксом. – Пятого ноября в память раскрытия Порохового заговора ежегодно совершалась торжественная церемония – подвальные помещения парламента обходила стража с зажженными факелами. В этот же день по улицам Лондона носили чучело Гая Фокса, которое затем сжигали.
6
…«обедать с герцогом Гэмфри»… – значит совсем не обедать (английская поговорка).
7
«Дядюшка» – в английском просторечии – ростовщик.
8
«Золотые шары». – Три золотых шара были изображены в гербе семьи Медичи. Банкиры Медичи были одновременно и крупными ростовщиками. Впоследствии золотые шары стали украшать вывески лавок ростовщиков.
9
Учение Монбоддо. – Джеймс Бернетт Монбоддо (1714–1799) – шотландский юрист и ученый, один из зачинателей научной антропологии.
10
…независимо от теории Блюменбаха… – Блюменбах Иоганн Фридрих (1752–1840) – немецкий физиолог и антрополог. Выдвинул теорию о делении че
Страница 40
овечества на пять рас: кавказскую, монгольскую, малайскую, американскую и африканскую, или эфиопскую.11
Солсбери – старинный город в Южной Англии, главный город графства Вильтшир. В Солсбери находится один из интереснейших памятников английской ранней готики: старинный собор постройки XIII века, увенчанный шпилем высотой в 400 футов.
12
Фортунатова сума – волшебный кошелек, в котором никогда не переводились деньги, подаренный Фортунату, герою популярной немецкой легенды XV века, богиней судьбы.
13
Пинч (англ, pinch) – буквально: «ущипнуть», «щипок».
14
…ни дракону, ни грифону, ни единорогу… – легендарные чудовища, встречающиеся в мифологии различных народов. В средние века изображениями этих чудовищ украшали военные доспехи и знамена. Позднее драконы, грифоны и единороги, как шутит Диккенс, «начали интересоваться домашним хозяйством» и перекочевали на вывески постоялых дворов и трактиров.
15
…в связи со славными событиями испанской войны… – О какой испанской войне идет речь – не ясно. Мистер Тигг-старший мог участвовать в войне Испании с Англией (1779–1783) и в Испано-Португальской войне 1801 года.
16
…сколько бы Геркулес ни размахивал палицей во всех направлениях, разве он в силах помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах или собакам погибать от пули… – вольная передача сентенции Гамлета из 1-й сцены V акта трагедии Шекспира «Гамлет»:
Хотя бы Геркулес весь мир разнес,
А кот мяучит, и гуляет пес.
(Перевод М. Лозинского.)
17
…истинным Самсоном… – Самсон – легендарный библейский герой, наделенный невиданной силой.
18
Дорожный сбор – сбор за право проезда по дорогам – один из пережитков феодализма, сохранявшийся в английском законодательстве до середины XIX века.
19
…Робинзон… спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей… – Имеется в виду роман Даниеля Дефо (1660–1731) «Робинзон Крузо» (1719). Это произведение породило несметное количество подражаний, одним из которых является роман, вышедший в 1727 году под названием: «Несравненные страдания и удивительные приключения Филиппа Кворла, англичанина, который был обнаружен бристольским купцом м-ром Доррингтоном на необитаемом острове в Южном море, где он жил около 50 лет без всякого человеческого общества, и откуда не хотел выезжать».


