Смог приступить к написанию...
В некоторых рецензиях я уже писал, что не любитель биографий, автобиографий и мемуаров. Однако Ремарк и Набоков стоят особняком в моём литературном топе, поэтому мне действительно хотелось узнать об их жизни побольше. Что касается именно Набокова, то я просто давно его не читал, соскучился по неподражаемому языку Владимира Владимировича, по психологическим уловкам и неожиданным сюжетным поворотам, характерным для его произведений. Получил ли я всё это от его мемуаров? Язык, как всегда, потрясающий, истинное наслаждение для глаза и мозга! Мало кто может орудовать словами столь виртуозно!Однако при всей безупречности формы к содержанию есть некоторые вопросы. Пока расскажу о тех частях, которые понравились больше всего. Начнём с детства. Было очень любопытно читать о тех играх, которыми занимал себя мальчик, смотрящий на мир совершенно иначе. Он видел всё вокруг под другим углом, чувствовал жизнь острее, думал больше, глубже проникал в суть вещей. На мой взгляд, такое мироощущение можно назвать проклятием гения. Особое место в жизни Набокова занимала синестезия. Очень любопытное явление, о котором почитать всегда интересно, ибо невозможно представить, каково это – видеть все слова в цветовой гамме?! Особенно поражаюсь тому, как Набоков описывает вкус слов! Само это словосочетание уже прекрасно!
Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию «структурных» красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, X, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ.Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем В), розово-фланелевым M и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжеватым Ё, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец, синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЁЕПСКЗ).Исповедь синэстета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков – и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. Могу по бедности понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме», да еще всякие испанские спазмы и звон, – но концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших – оголение всех нервов и даже понос.Не меньший философский интерес представляет для меня описываемый Набоковым страх заснуть и не проснуться, утратить контроль над миром и сознанием. Поймал себя на мысли, что сам испытывал нечто подобное. Никогда в детстве не спал днём, например. … Да и ночью сейчас «выключаюсь « довольно долго, ибо непросто освободиться от множества мыслей в голове. С удовольствием приведу отрывок из книги на эту тему: Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то «баллотируются», или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец. Единственной опорой в темноте была щель слегка приоткрытой двери в соседнюю комнату, где горела одна лампочка из потолочной группы и куда Mademoiselle из своего дневного логовища часов в десять приходила спать. Без этой вертикали кроткого света мне было бы не к чему прикрепиться в потемках, где кружилась и как бы таяла голова. Удивительно приятной перспективой была мне субботняя ночь, та единственная ночь в неделе, когда Mademoiselle, принадлежавшая к старой школе гигиены и видевшая в наших английских привычках лишь источник простуд, позволяла себе роскошь и риск ванны – чем продлевалось чуть ли не на час существование моей хрупкой полоски света. В петербургском доме ей отведенная ванная находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья, и, разрываясь между страхом, что ей вздумается сократить свое торжественное купанье, и завистью к мирному посапыванию брата за ширмой, я никогда не успевал воспользоваться лишним временем и заснуть, пока световая щель в темноте все еще оставалась залогом хоть точки моего я в бездне. И наконец они раздавались, эти неумолимые шаги: вот они тяжело приближаются по коридору и, достигнув последнего колена, заставляют невесело брякать какой-нибудь звонкий предметик, деливший у себя на полке мое бдение. Вот – вошла в соседнюю комнату. Происходит быстрый пересмотр и обмен световых ценностей: свечка у ее кровати скромно продолжает дело лампы, которая, со стуком взбежав на две ступени дивного добавочного света, тут же отменяет его и с таким же стуком тухнет. Моя вертикаль еще держится, но как она тускла и ветха, как неприятно содрогается всякий раз, что скрипит мадемуазелина кровать… Наступает период упадка: она читает в постели Бурже. Слышу серебристый шелест оголяемого шоколада и чирканье фруктового ножа, разрезающего страницы новой Revue des Deux Mondes. Я даже различаю знакомый зернистый присвист ее дыханья. И все время, в ужасной тоске, я стараюсь приманить ненавистный сон, ибо знаю, что сейчас будет. Ежеминутно открываю глаза, чтобы проверить, там ли мой мутный луч. Рай – это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи! И тут-то оно и случается: защелкивается футляр пенснэ; шуркнув, журнал перемещается на ночной столик; Mademoiselle бурно дует; с первого раза подшибленное пламя выпрямляется вновь; при втором порыве свет гибнет. Ещё один интересный момент в жизни писателя – его мастерское переключение между русским и английским языком, его совершенное владением одним и другим. Причем здесь ведь речь идёт не только о словах, но и об образе мышления, менталитете. У меня бы точно от такого контраста башню сорвало! Нужно ещё сделать некоторое пояснение: я здесь подразумеваю не разговорную речь, таких примеров много в моей жизни, а именно то, что оба языка одинаково были профессий Владимира Владимировича, средством заработка на хлеб, если угодно! Ну, впрочем, чего я удивляюсь многогранности гения!? Теперь мы подходим к самому сложному – началу критики произведения. Мне не хватило в книге ощущения того, что Набоков ещё и человек, а не только гений. То есть, я ждал больше описаний его отношений с друзьями, девушками, коллегами по цеху… этого получилось совсем мало… поэтому, самой интересной для меня была глава про знакомство и отношения с Тамарой. Хотя она началась и закончилась слишком быстро…. хоть бы рассказал, как с женой познакомился, как развивалась их история любви, как воспитывали ребёнка…. А то как-то отрывочно рассказал про супругу и сына, будто бы просто галочку поставил….В целом могу сказать, что книга читалась чуть медленнее, чем я ожидал. Было несколько реально скучных фрагментов: большая глава о родственниках автора, которые всё равно не были столь интересными личностями, как сам Владимир Владимирович. Рассуждения о шахматах и шахматных задачах, в которых я не понимаю ничего от слова совсем. Рассказы писателя об увлечении бабочками тоже не впечатлили, ибо к фауне я равнодушен, уж простите! Однако, хотя книга и не произвела эффекта разорвавшейся бомбы, я очень рад, что прочёл её! Ведь у меня получилось утолить жажду набоковского стиля и глубже проникнуть в мир этого удивительного человека, ура! Следующей станет проба Набокова как автора рассказов. Скорее всего, возьмусь за сборник Весна в Фиальте, но это будет уже совсем другая рецензия…
 Все форматы
3.7 / 21
Мечты о лучшей жизни
Автор: Екатерина Островская
Все форматы
3.7 / 21
Мечты о лучшей жизни
Автор: Екатерина Островская
 Все форматы
0 / 0
Марсианин
Автор: Энди Вейер
Все форматы
0 / 0
Марсианин
Автор: Энди Вейер
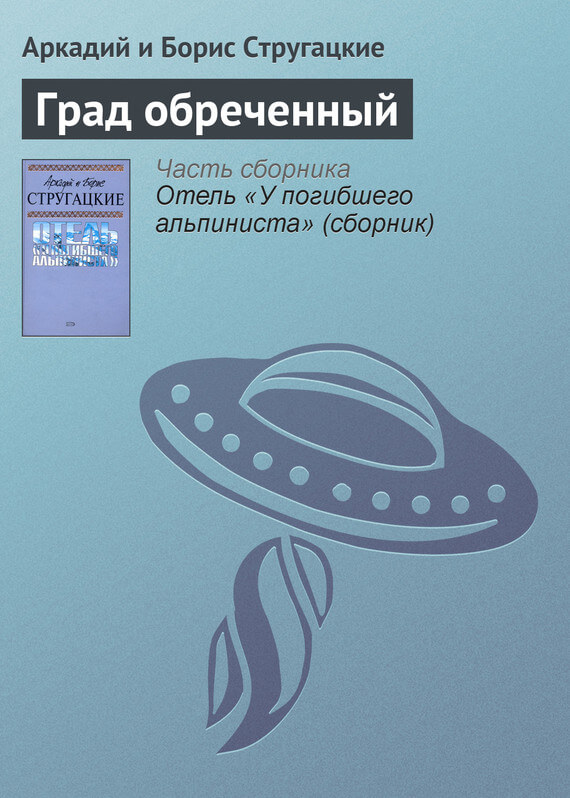 Все форматы
4.4 / 6.8K
Град обреченный
Автор: Аркадий Стругацкие
Все форматы
4.4 / 6.8K
Град обреченный
Автор: Аркадий Стругацкие
 Все форматы
0 / 0
Собор Парижской Богоматери
Автор: Виктор Гюго
Все форматы
0 / 0
Собор Парижской Богоматери
Автор: Виктор Гюго





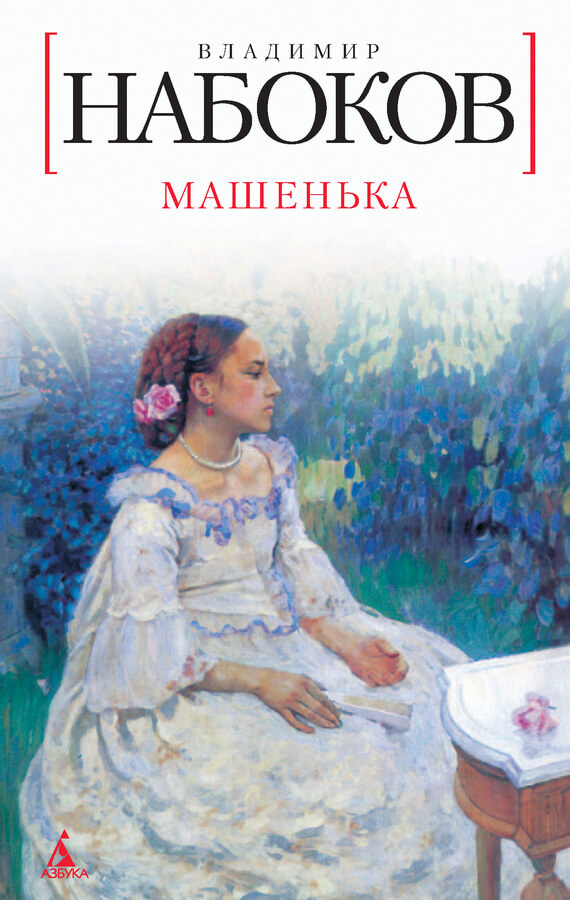







Комментарии и отзывы:
Комментарии и отзывы: