Пожалуй, этот роман можно...
Пожалуй, этот роман можно назвать затянутым психоаналитическим кейсом, где во всех деталях показано, какое влияние детская психотравма может оказать на человека. Жюль, его старшие брат Марти и сестра Лиз теряют родителей в раннем возрасте; детей отдают в интернат. Они вынуждены сами адаптироваться в обществе и искать там свое место. У всех это получается по-разному, но все одинаково надломлены внутри. Жюль избегает близких отношений, живет в мечтах и воспоминаниях. Лиз увлекается наркотиками и бродяжничает. Марти вроде бы преуспевает, открывает свою фирму, женится, но мало кто знает, что прежде чем выйти из дома, он нажимает на ручку двери шесть, а то и двенадцать раз – чтобы отогнать несчастья – и свято верит в такие свои ритуалы. Бывает ли так? Да, конечно. Поведение родителей, их страхи, тревоги, их ожидания, их победы и неудачи во многом определяют не только детство, но и весь последующий путь детей. И, положа руку на сердце, у кого из нас нет болезненных воспоминаний прошлого, кто хоть раз не пускался во все тяжкие, стараясь забываться в угаре веселья, или не следовал каким-то заветным, пусть и незначительным, ритуалам? Надо отдать должное роману, с психологией здесь все в порядке – истоки страхов и проблем выявлены, рассмотрены со всех сторон и пережиты. И финал хрестоматийно правильный для психоаналитического кейса – герой осознает причины своего одиночества, понимает, что справиться с ним можно только сообща, и, подтверждая это понимание, доказывает и себе, и сыну, что страха перед жизнью у него больше нет. Все это хорошо, если бы не затянутость текста – большая часть страниц заполнена одними и теми же переживаниями, воспоминания несколько меняются, но эти изменения слишком незначительны, чтобы поддерживать динамику. История смотрелась бы гораздо органичнее в объеме повести, а еще лучше – рассказа. При всей своей психологической достоверности, пластов в романе не так уж много. Дает ли автор какую-то новую информацию – о профессии, стране, природе, обычаях, об увлечениях, об исторических событиях, о культуре, архитектуре, о чем угодно? Нет. Это жизнеописание героя, который ни к чему и не стремился, ничем особо не интересовался. Есть ли здесь интеллектуальная составляющая, интересен ли сюжет, пытаются ли герои разобраться в ситуации, отвлеченной от их личной жизни? Нет. Логических загадок никто не загадывает. Есть ли здесь эстетика – красота построения фраз, особая стилистика, особые приемы написания текста? Не обнаружено. Язык простой (насколько можно понять в переводе), без особых изысков и сравнений. Отвлеченных описаний мало, почти нет. Есть намек на философскую составляющую, все-таки в тексте много размышлений об одиночестве и его природе. Но ничего нового в этом лично я для себя не обнаружила. Получается, такой объем текста при его одноплановости неизбежно будет содержать повторения, что и произошло в данном случае. Также роман грешит неправдоподобными сюжетными ходами, которые трудно объяснить логически и принять с нравственной точки зрения. Альва, подруга Жюля, выходит замуж за богатого и веселого российского писателя Романова, на лет тридцать старше ее, они живут счастливо. А потом Альва приглашает Жюля к ним погостить. Жюль выясняет, что Романов «уже не тот, что был раньше», не такой он веселый и даже местами нервный, а еще он все забывает. Жюль жалеет Альву, мол, достается, бедняге, мучается – терпит причуды старика, живя в роскошном особняке у леса. И Жюль решается ее утешить – становится любовником Альвы под носом у дряхлеющего мужа. Тот-то ведь уже любить не способен, чего с ним считаться? Альва хочет сдать Романова в пансионат. Не может она больше так тяжело жить. И Жюль снова приходит на помощь любимой – вкладывает Романову в руки ружье и напоминает, что отец того покончил жизнь самоубийством, как бы говоря: вам бы тоже неплохо так поступить, а то сдадут в пансионат и пиши пропало. Затуманенный Альцгеймером мозг старика воспринимает совет за чистую монету, и Романов убивает себя. Всё, дорога свободна, у Альвы – миллионы, новый муж и беременный живот. Полиция не ведет расследование сомнительной смерти престарелого миллионера, дальние и близкие родственники не претендуют на состояние, Жюль особо не мучается угрызениями совести, они с Альвой заняты своим «заслуженным» счастьем (ведь они столько страдали!) и планами на будущее. Возможно, одержимая свободой и комфортом европейская мораль такой сюжетный ход оправдывает, для меня же это стало падением героя. Нерешительность еще можно простить, но пренебрежение жизнью, пусть и смертельно больного человека, пусть и не полностью осознающего себя – нет. У меня большие сомнения, можно ли такой поступок совершить из человеколюбия. Скорее – из-за нежелания терпеть чьи-то страдания. Да и нам ли решать, когда отбирать жизнь другого, какой бы тяжелой она ни казалась? И этот момент вскрывает еще одну тенденцию современного общества – люди слишком много думают о себе и своем комфорте. У каждого есть травмы, но бесконечное обращение внутрь себя не даст плодов. Автор в конце концов приходит к выводу, что одиночество можно победить сообща. Но он не уточняет, что для этого недостаточно просто быть вместе, для этого необходимо что-то делать – хотя бы для тех, кто рядом.
Пожалуй, этот роман можно назвать затянутым психоаналитическим кейсом, где во всех деталях показано, какое влияние детская психотравма может оказать на человека. Жюль, его старшие брат Марти и сестра Лиз теряют родителей в раннем возрасте; детей отдают в интернат. Они вынуждены сами адаптироваться в обществе и искать там свое место. У всех это получается по-разному, но все одинаково надломлены внутри. Жюль избегает близких отношений, живет в мечтах и воспоминаниях. Лиз увлекается наркотиками и бродяжничает. Марти вроде бы преуспевает, открывает свою фирму, женится, но мало кто знает, что прежде чем выйти из дома, он нажимает на ручку двери шесть, а то и двенадцать раз – чтобы отогнать несчастья – и свято верит в такие свои ритуалы. Бывает ли так? Да, конечно. Поведение родителей, их страхи, тревоги, их ожидания, их победы и неудачи во многом определяют не только детство, но и весь последующий путь детей. И, положа руку на сердце, у кого из нас нет болезненных воспоминаний прошлого, кто хоть раз не пускался во все тяжкие, стараясь забываться в угаре веселья, или не следовал каким-то заветным, пусть и незначительным, ритуалам? Надо отдать должное роману, с психологией здесь все в порядке – истоки страхов и проблем выявлены, рассмотрены со всех сторон и пережиты. И финал хрестоматийно правильный для психоаналитического кейса – герой осознает причины своего одиночества, понимает, что справиться с ним можно только сообща, и, подтверждая это понимание, доказывает и себе, и сыну, что страха перед жизнью у него больше нет. Все это хорошо, если бы не затянутость текста – большая часть страниц заполнена одними и теми же переживаниями, воспоминания несколько меняются, но эти изменения слишком незначительны, чтобы поддерживать динамику. История смотрелась бы гораздо органичнее в объеме повести, а еще лучше – рассказа. При всей своей психологической достоверности, пластов в романе не так уж много. Дает ли автор какую-то новую информацию – о профессии, стране, природе, обычаях, об увлечениях, об исторических событиях, о культуре, архитектуре, о чем угодно? Нет. Это жизнеописание героя, который ни к чему и не стремился, ничем особо не интересовался. Есть ли здесь интеллектуальная составляющая, интересен ли сюжет, пытаются ли герои разобраться в ситуации, отвлеченной от их личной жизни? Нет. Логических загадок никто не загадывает. Есть ли здесь эстетика – красота построения фраз, особая стилистика, особые приемы написания текста? Не обнаружено. Язык простой (насколько можно понять в переводе), без особых изысков и сравнений. Отвлеченных описаний мало, почти нет. Есть намек на философскую составляющую, все-таки в тексте много размышлений об одиночестве и его природе. Но ничего нового в этом лично я для себя не обнаружила. Получается, такой объем текста при его одноплановости неизбежно будет содержать повторения, что и произошло в данном случае. Также роман грешит неправдоподобными сюжетными ходами, которые трудно объяснить логически и принять с нравственной точки зрения. Альва, подруга Жюля, выходит замуж за богатого и веселого российского писателя Романова, на лет тридцать старше ее, они живут счастливо. А потом Альва приглашает Жюля к ним погостить. Жюль выясняет, что Романов «уже не тот, что был раньше», не такой он веселый и даже местами нервный, а еще он все забывает. Жюль жалеет Альву, мол, достается, бедняге, мучается – терпит причуды старика, живя в роскошном особняке у леса. И Жюль решается ее утешить – становится любовником Альвы под носом у дряхлеющего мужа. Тот-то ведь уже любить не способен, чего с ним считаться? Альва хочет сдать Романова в пансионат. Не может она больше так тяжело жить. И Жюль снова приходит на помощь любимой – вкладывает Романову в руки ружье и напоминает, что отец того покончил жизнь самоубийством, как бы говоря: вам бы тоже неплохо так поступить, а то сдадут в пансионат и пиши пропало. Затуманенный Альцгеймером мозг старика воспринимает совет за чистую монету, и Романов убивает себя. Всё, дорога свободна, у Альвы – миллионы, новый муж и беременный живот. Полиция не ведет расследование сомнительной смерти престарелого миллионера, дальние и близкие родственники не претендуют на состояние, Жюль особо не мучается угрызениями совести, они с Альвой заняты своим «заслуженным» счастьем (ведь они столько страдали!) и планами на будущее. Возможно, одержимая свободой и комфортом европейская мораль такой сюжетный ход оправдывает, для меня же это стало падением героя. Нерешительность еще можно простить, но пренебрежение жизнью, пусть и смертельно больного человека, пусть и не полностью осознающего себя – нет. У меня большие сомнения, можно ли такой поступок совершить из человеколюбия. Скорее – из-за нежелания терпеть чьи-то страдания. Да и нам ли решать, когда отбирать жизнь другого, какой бы тяжелой она ни казалась? И этот момент вскрывает еще одну тенденцию современного общества – люди слишком много думают о себе и своем комфорте. У каждого есть травмы, но бесконечное обращение внутрь себя не даст плодов. Автор в конце концов приходит к выводу, что одиночество можно победить сообща. Но он не уточняет, что для этого недостаточно просто быть вместе, для этого необходимо что-то делать – хотя бы для тех, кто рядом.
Роман получил премию «European Union Prize For Literature», значит, переживания героя резонируют во многих умах. Остается надеяться, что срезонируют и выводы, к которым автор подводит читателей в конце. А быстрое решение с «самоэвтаназией», выражаясь политкорректно, не выйдет за пределы книги и останется лишь неудачным сюжетным ходом.
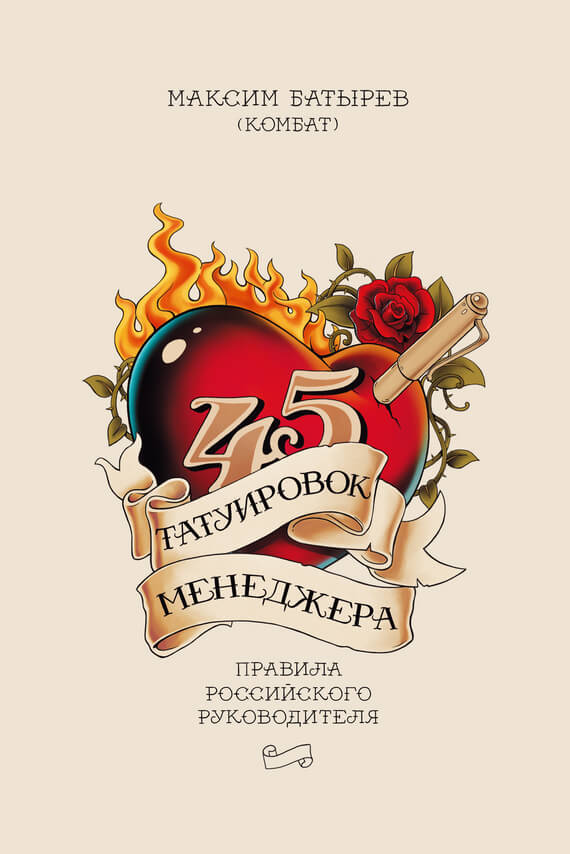 Все форматы
4.4 / 4.2K
45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя
Автор: Максим Батырев
Все форматы
4.4 / 4.2K
45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя
Автор: Максим Батырев
 Все форматы
4.2 / 6.2K
7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности
Автор: Стивен Кови
Все форматы
4.2 / 6.2K
7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности
Автор: Стивен Кови
 Все форматы
0 / 0
Марсианин
Автор: Энди Вейер
Все форматы
0 / 0
Марсианин
Автор: Энди Вейер
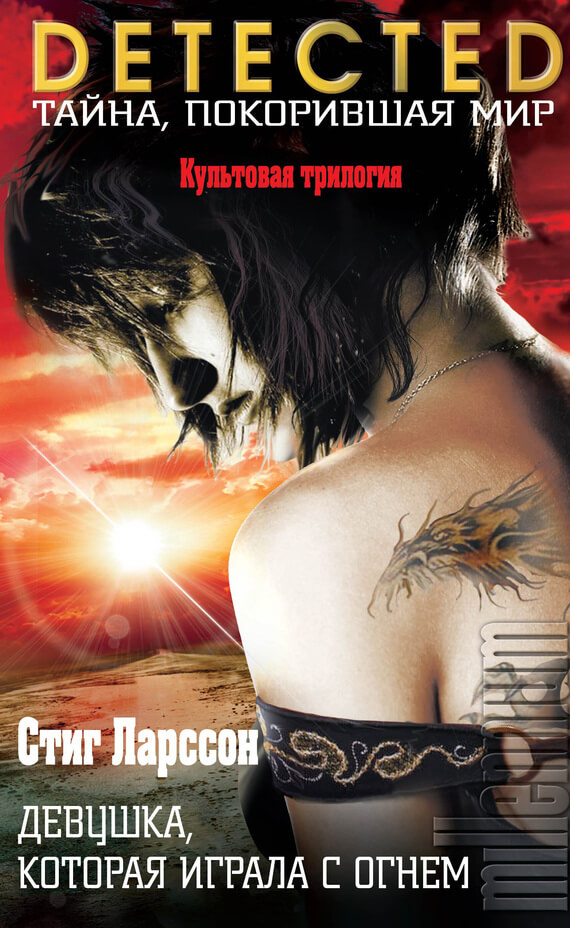 Все форматы
0 / 0
Девушка, которая играла с огнем
Автор: Стиг Ларссон
Все форматы
0 / 0
Девушка, которая играла с огнем
Автор: Стиг Ларссон
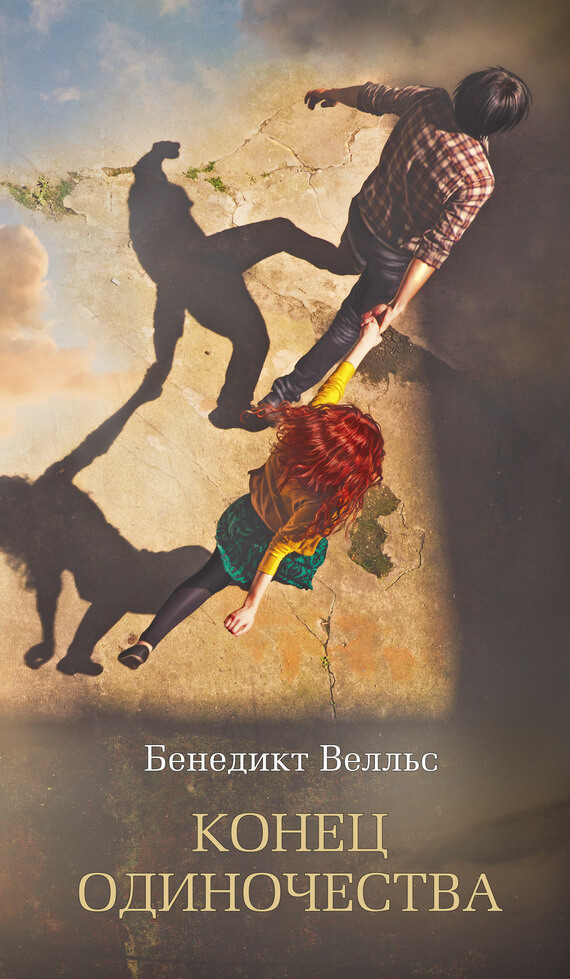
![НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ: Бенедикт Велльс "Конец одиночества" [новая рубрика]](/storage/app/public/videos/4050_y.jpg)
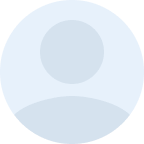



Комментарии и отзывы:
Комментарии и отзывы: