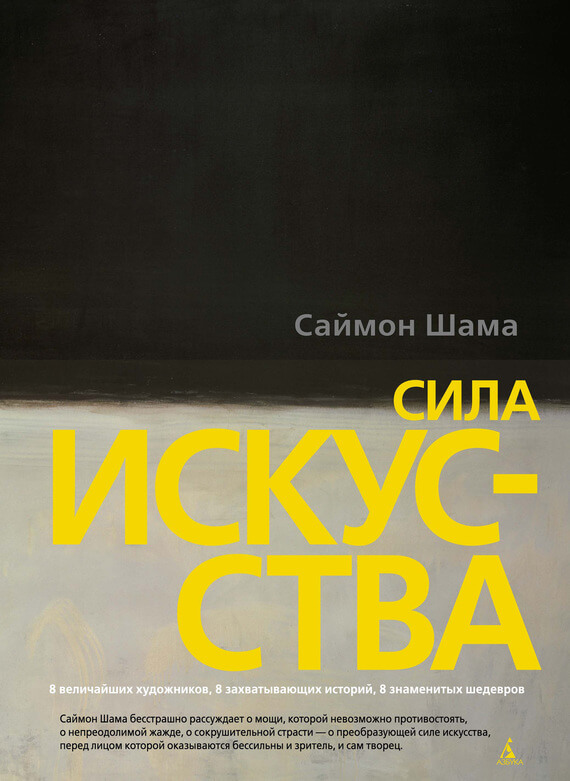Сила искусства
16 рецензий
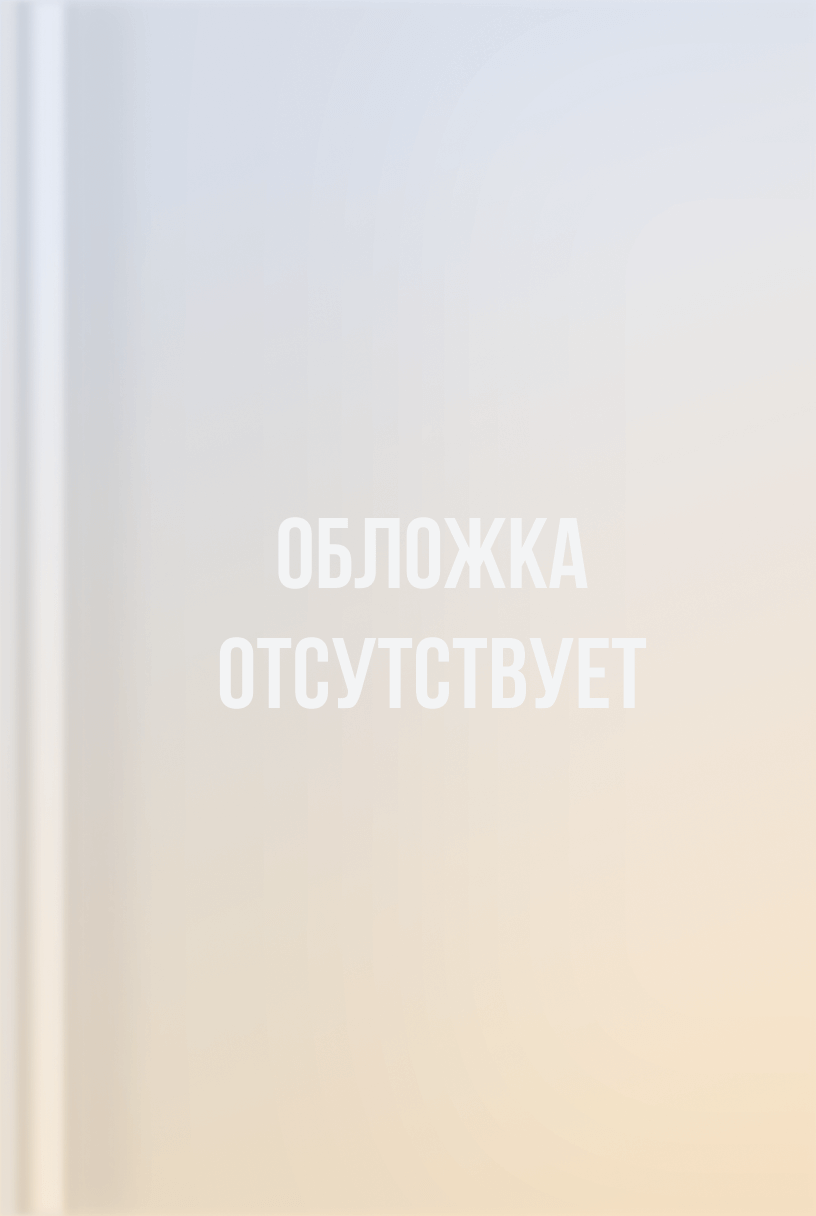
Автор:Саймон Шама
Язык:Русский
Издательство:ООО «ИТ»
Год издания:2017
Возраст:16+
Тираж:3000
ISBN:978-5-389-13075-3
Артикул:26783
Скачать книгу:Вы скачиваете фрагмент книги предоставленной ООО "ИТ"
Другие форматы:
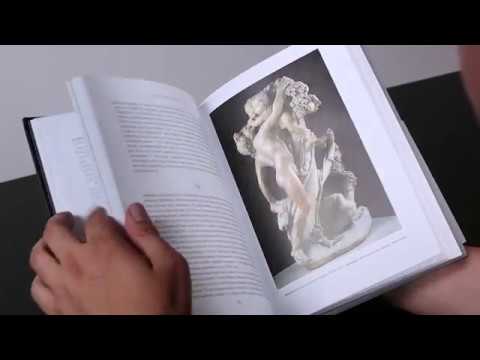
Саймон Шама. Сила искусства. БуктрейлерПродолжительность: 01:24