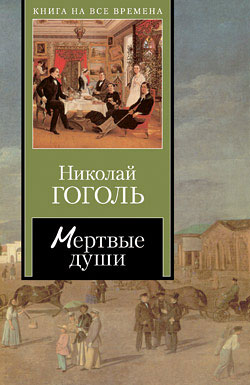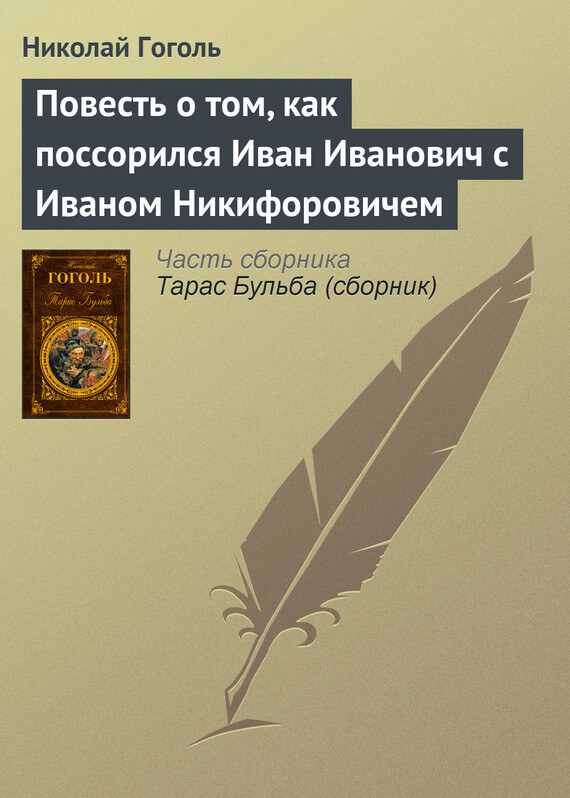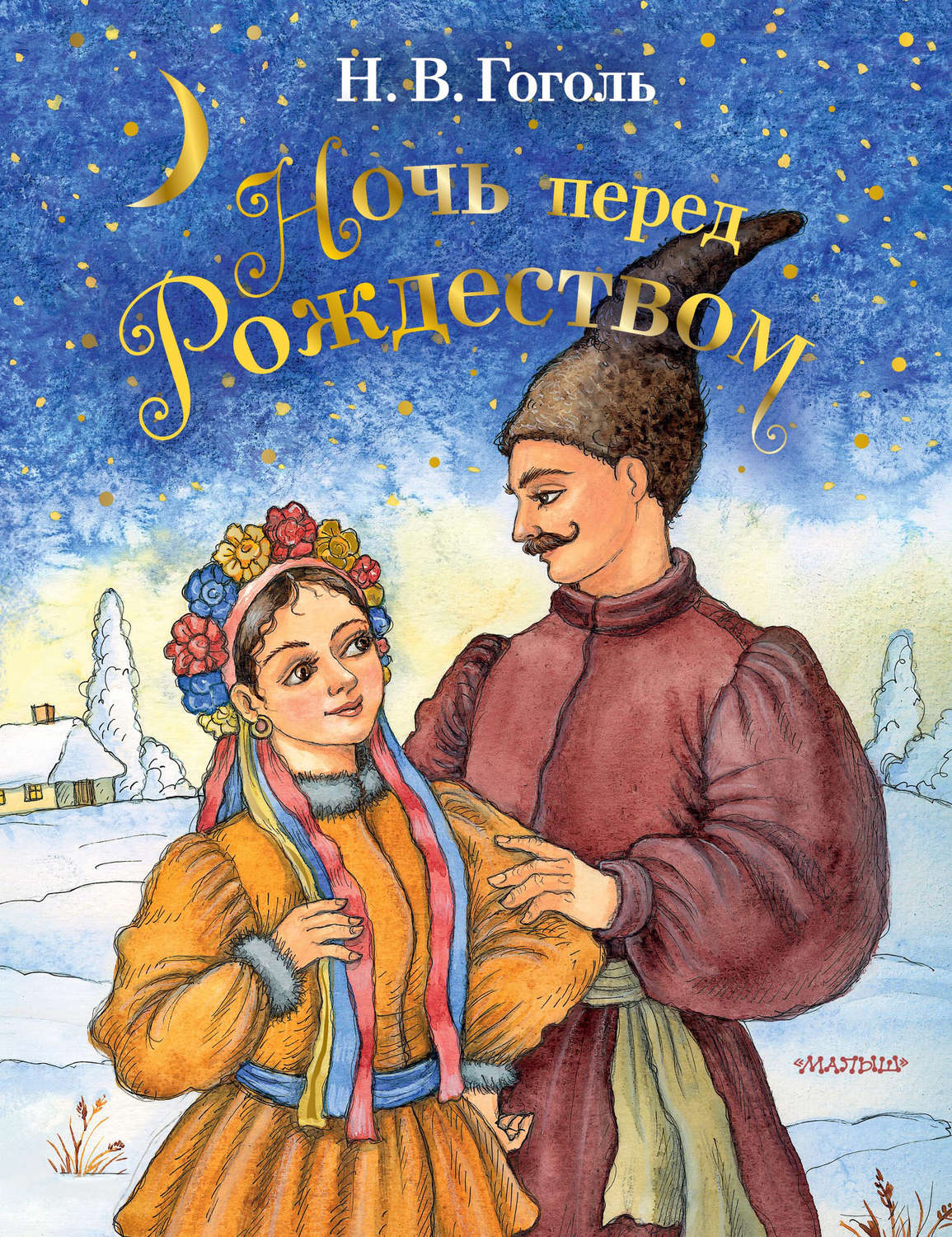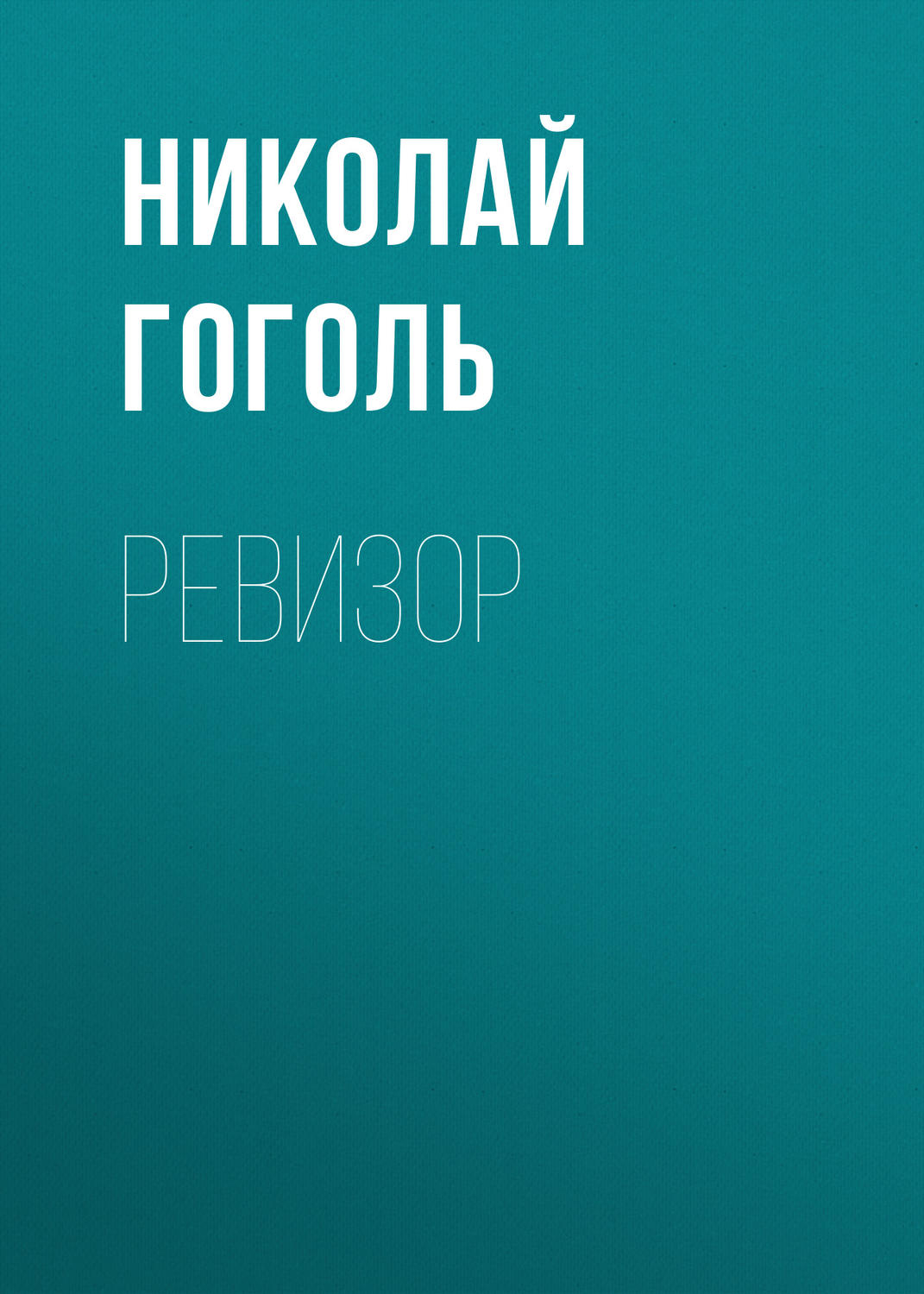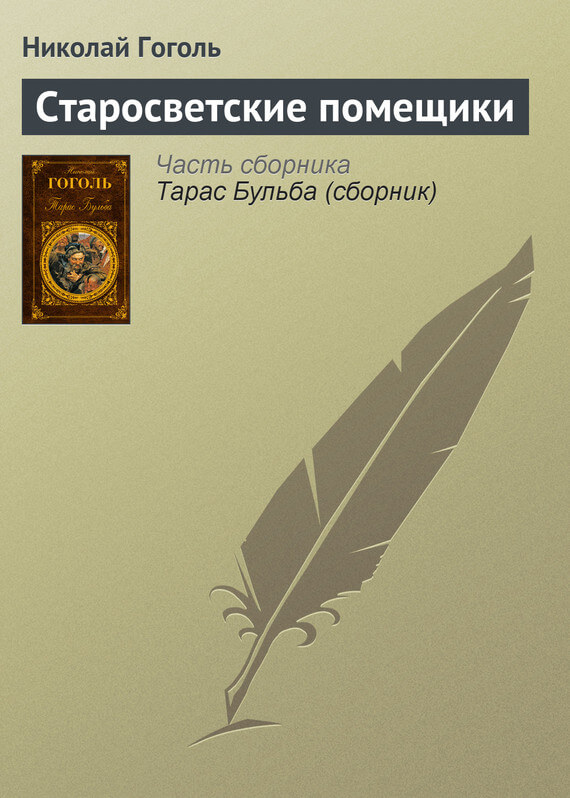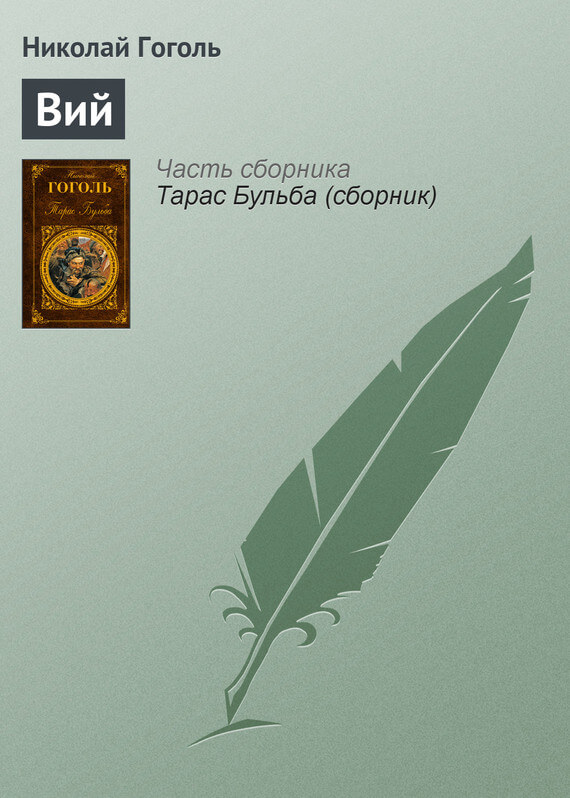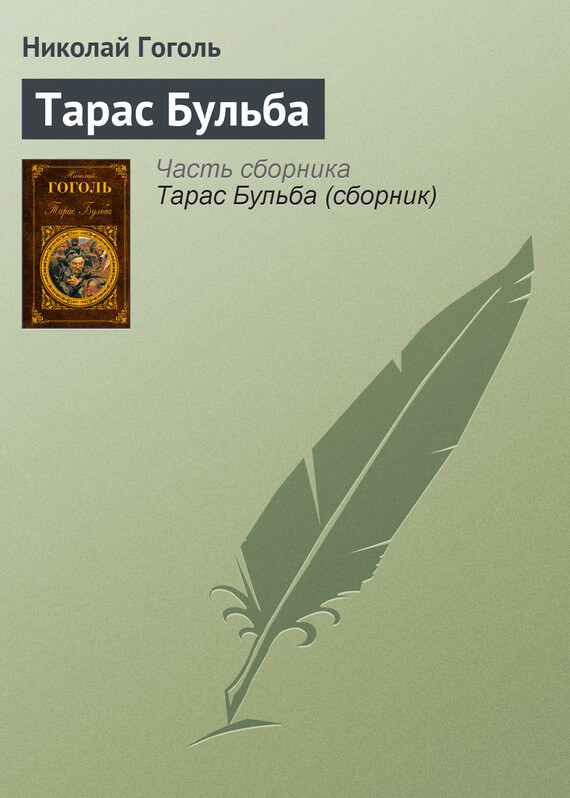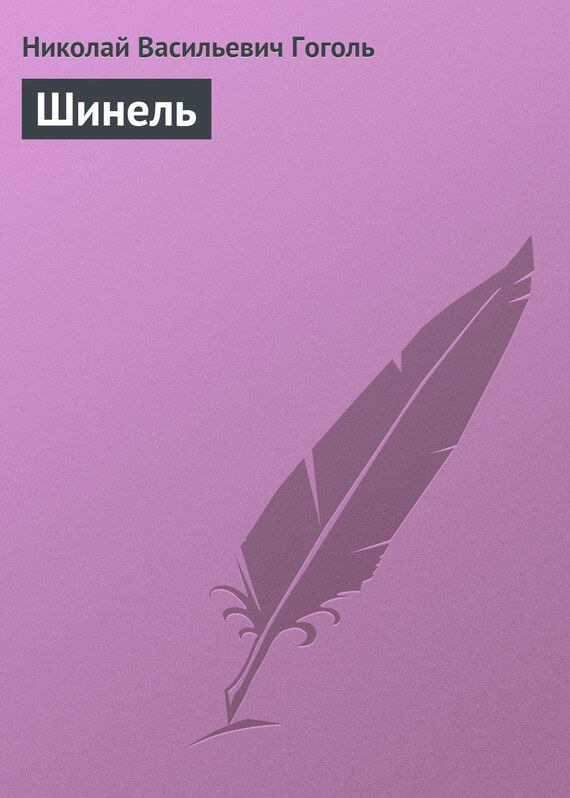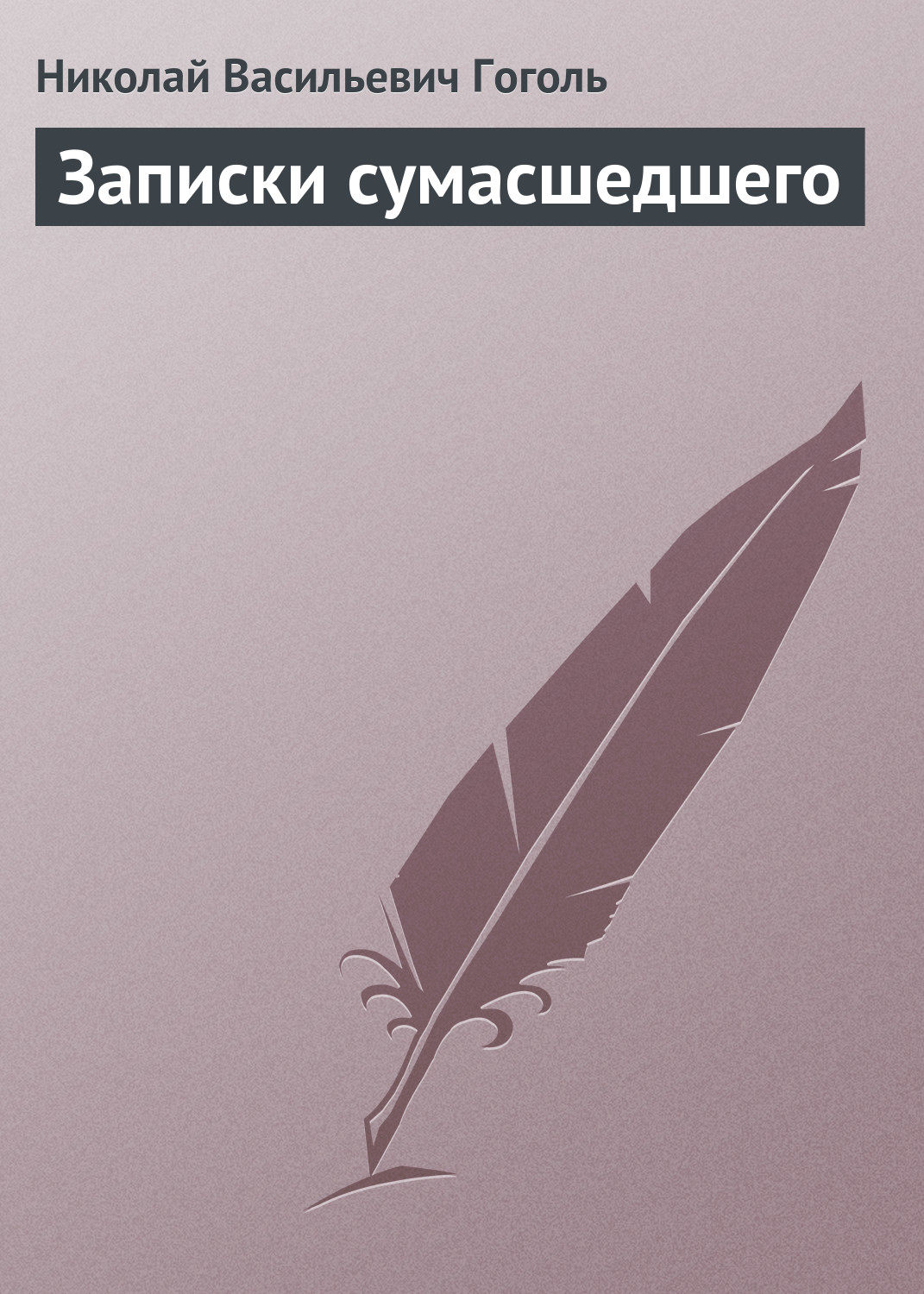Мертвые души
39 рецензий
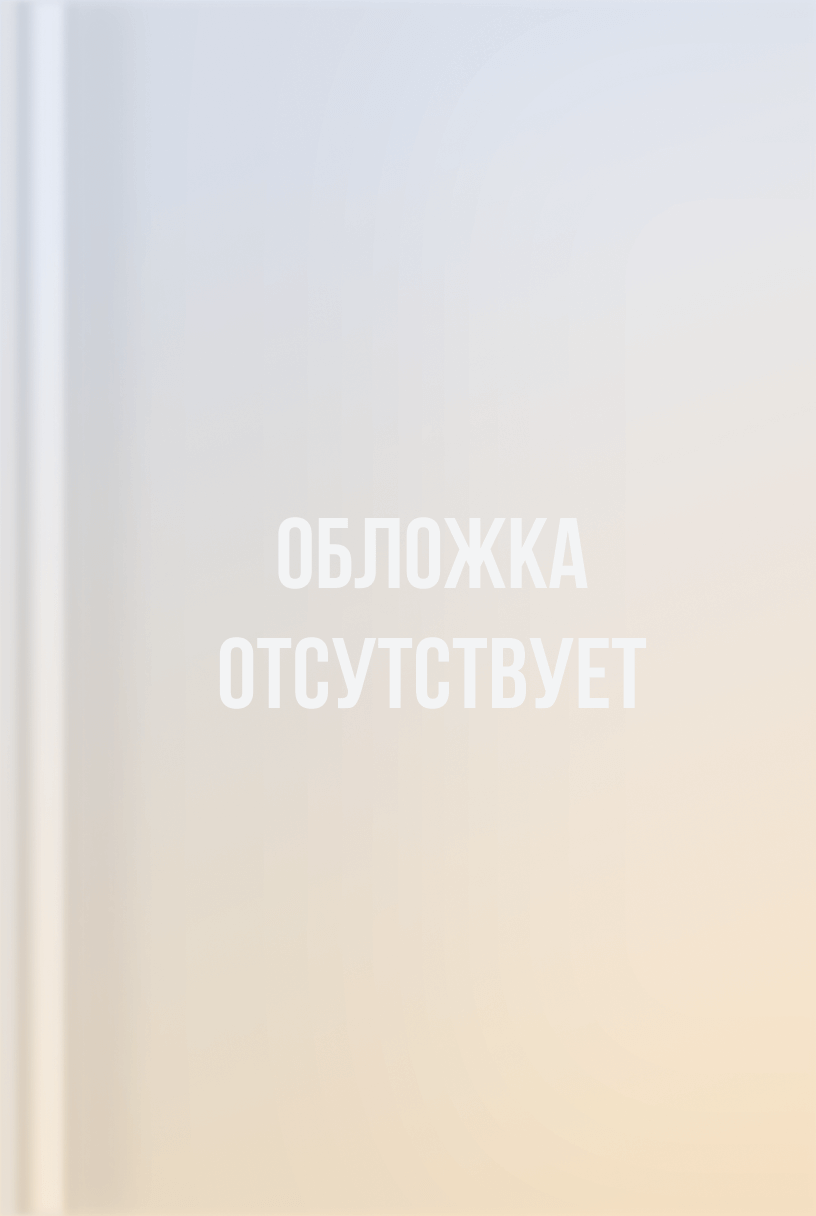
Автор:Николай Гоголь
Язык:Русский
Издательство:ООО «ИТ»
Год издания:2021
Возраст:12+
Тираж:-
ISBN:-
Артикул:2618

Краткое содержание - Мертвые душиПродолжительность: 07:24
0 - хотят прочитать|0 - прочитали
Все книги автора: 16
10 ₽
4.3 / 17
349 ₽
0 / 0
0 / 0
30 ₽
0 / 0
349 ₽
4.4 / 54
200 ₽
4 / 209
39,13 ₽
0 / 0
199 ₽
0 / 0
200 ₽
0 / 0
30 ₽
4.6 / 19
10 ₽
4 / 15
Цитаты из книги: 15
Внимание! Цитаты могут содержать спойлеры...
Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.
Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека.
Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений.
Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью!
Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его.
Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины.
Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду.
Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то пойдёт оно ему и в род в потомство.
Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слёзы.
Надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска… да я бы умер от тоски, если бы хотя один день провёл в городе так, как проводят они! Хозяину нет времени скучать. В жизни его нет пустоты — всё полнота.
Но всё это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастия семейственной жизни, фортепьяно, для доставления приятных минут…
Но в жизни все меняется быстро и живо…
Но странен человек: его огорчало сильно нерасположенье тех самых, которых он не уважал и насчет которых отзывался резко, понося их суетность и наряды. Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился, и в том, конечно, был прав.…
Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: Здесь погребен человек!, но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.
«Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором.»
Скачать бесплатно книгу
Вы скачиваете фрагмент книги, предоставленный издательством